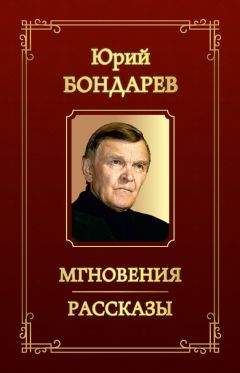Юрий Бондарев - Батальоны просят огня (редакция №2)
Глава восьмая
Эта маленькая полоса земли на правом берегу Днепра, напротив острова, называлась в сводках дивизии плацдармом, больше того – трамплином, необходимым для развертывания дальнейшего наступления. Кроме того, в донесениях из штаба дивизии Иверзева неоднократно сообщалось, что плацдарм этот прочно и героически держится, перечислялось количество немецких контратак, количество подбитых танков и орудий, число убитых гитлеровских солдат и офицеров и доводилось до сведения высшего командования, что наши войска концентрируются и группируются в районе острова на узкой, но все время расширяемой полосе правобережья и готовятся нанести удар. С конца прошлой ночи наступило неожиданное затишье, а известно, что в состоянии даже неустойчивой обороны высшие штабы требуют донесений более подробных, чем в период наступления, и в сообщениях из дивизии все выглядело на плацдарме, естественно, планомернее…
Здесь же, в батарее старшего лейтенанта Кондратьева и в роте капитана Верзилина, точнее, в расчетах двух уцелевших орудий и в двух оставшихся после переправы пехотных взводах, ждали и закапывались в землю. Узенькая – на две сотни метров – ленточка плацдарма тянулась по высокому берегу Днепра, днем просматривалась немцами и простреливалась с трех сторон, ночью ракеты падали и догорали в нескольких шагах от траншей, от огневой позиции батареи.
Две землянки, похожие на большие норы, были вырыты артиллеристами в отвесном обрыве берега; вырубленные в земле ступени вели наверх к орудиям. Днем там лежал один часовой, ночью – два. Здесь, на бугре, орудия были глубоко врыты, стояли без щитов, накрытые камуфляжными плащ-палатками; ниши по бровку набиты снарядными ящиками – все, что удалось за две ночи переправить сюда.
В ясный голубой день, засиявший над Днепром после ночной переправы, все лежали на песке возле землянки, утомленные, грелись на осеннем солнце.
Старший лейтенант Кондратьев сидел тут же в несвежей нижней рубахе, неумело и конфузясь пришивал подворотничок к пропотевшей гимнастерке. Изредка он поглядывал на тот берег. Густо-синяя широта Днепра, облитая солнцем, песчаный остров, желтые леса, белые дороги на далеких холмах за лесами – все это, как в бинокль, на много километров было видно отсюда. Там, на белых дорогах, не часто появлялись повозки, ползли в пыли, и тотчас со стороны немцев глухо ударяла батарея. Черные кусты разрывов вырастали на холмах, застилая на миг дорогу. Стараясь выбраться из этих кустов, повозки мчались, неслись вскачь, круто забирая в гору, и тогда у всех возникало острое чувство любопытства: накроет или не накроет?
Один раз повозку все-таки накрыло. На том месте, где была лошадь, образовался бугор. Маленький человек соскочил на дорогу и, петляя, побежал в сторону и вверх. И, как в укрытие, вбежал в черный куст разрыва. Больше по нему не стреляли.
Сержант Кравчук, держа на весу ногу и плотно, сильно наматывая на нее чистую портянку, сказал осуждающе:
– Эх, и дураки бывают братья славяне. Все пристреляно, а он лезет. Чего лезет? Стороной объехать нельзя? Немец не полез бы…
– Глупая привычка – авось, – сказал Кондратьев и провел пальцами по влажному лбу. – Да, да…
Он чувствовал себя не совсем здоровым, покашливал, то зяб, то бросало в пот: простыл все же, когда немцы искупали в Днепре в ту первую ночь переправы, когда пришлось вернуться на остров.
Разыгравшееся осеннее солнце было тепло, ласково, он чувствовал это, но оно не согревало его всего: голове было горячо, груди и спине холодно. Грубо тыкая иголку в подворотничок – пальцы не слушались, дрожали, – Кондратьев удивлялся и сердился даже: всю войну не болел, а тут вот на тебе, чепуха какая!..
– А ты не торопись. Сказал, будут у тебя часы, – послышался спокойный и уверительный голос.
Шагах в трех от Кондратьева – головами друг к другу – лежали на плащ-палатке наводчик Елютин и подносчик снарядов Лузанчиков, худенький, как подросток, с золотистым пухом на щеках. Как всегда, Елютин возился, чинил очередные часы: прищурив один глаз, крутил тонким острием перочинного ножа в разобранном механизме. А Лузанчиков глядел на сияющие колесики, на косматое солнце, на песчаный остров за Днепром, потом засмеялся и подул на светлые волосы Елютина. Тот, не поднимая головы, спросил:
– Это что же такое?
– Паутина, – сказал Лузанчиков. – Вон, смотрите, на волосах. С деревьев тянется.
Елютин поднял голову. На берегу, среди синего неба, стояли, светясь каждым листом, рыжие осины, и оттуда, посверкивая тончайшими нитями, тянулась в свежем воздухе паутина.
– Действительно, – сказал Елютин удивленно. – Ну, ладно, ты вот что. Давай помогай, без всяких глупостей. Или проваливай. И все. Тебя ничего не интересует. Ты как дрозд, Лузанчиков. Все видишь, а на одном не можешь внимания держать.
– А вот интересно: солнце, деревья, а птиц нет. Даже синиц. Почему?
– Перепугали синиц, – мягко сказал Кондратьев.
– Проваливай! – проговорил Елютин сердито. – От тебя толку не будет.
– Нет, я буду вам помогать! – взмолился Лузанчиков. – Честное слово… я могу…
– Пусть, – вмешался Кондратьев и улыбнулся виновато. – Что вы на него сердитесь? Паутина – тоже отличная штука.
Елютин был ленинградец, часовых дел мастер, золотые руки, золотая голова. Если сам Кондратьев, филолог по образованию, стал после сорок первого года понемногу забывать то, что когда-то очень любил, и теперь уже жил, казалось, только войной, то Елютин, парень с шестиклассным образованием, как будто мало вдавался в логику военных событий – все время руки его были в работе.
В обороне почти весь полк сносил к нему немецкие, швейцарские и наши старенькие, случайно и не совсем случайно найденные механизмы, и каждый с радостью и удовольствием уходил, чувствуя ожившие часики на руке. Не ремонтировал Елютин и отказывался только тогда, когда приносили к нему часы карманные. Был раз случай: он наладил и выверил прекрасный трофейный «мозер» для Кондратьева, тот подарил его лейтенанту из полковой разведки. А через неделю лейтенант погиб: разорвалась мина, раздробила карманные часы, и осколки механизма загнало в живот. После этого Елютин несколько дней, ни с кем не разговаривая, пролежал в землянке один, отвернувшись к стене, и наотрез отказывался от работы. Поэтому, не забыв это, Кондратьев иногда чувствовал себя неловко перед Елютиным и виновато улыбался ему.
Кондратьева знобило. Вздрагивающими пальцами он разгладил неровно пришитый черными нитками подворотничок, озябнув, натянул гимнастерку, стал застегивать – ворот был широк на исхудавшей шее.
– Смотри-ка, смотри-ка, товарищ старший лейтенант! Опять какой-то славянин лезет! – закричал Кравчук с досадой. – Соображает?..
Тотчас же раздался сдвоенный взрыв. Будто что-то гулко лопнуло возле ушей.
Кондратьев увидел холодную синь Днепра, на ней далекую песчаную желтизну острова. Около желтизны чернела на воде лодка, мелькали весла. Возле ушей Кондратьева снова оглушительно лопнуло, потом рядом с лодкой вырос столб воды. Стрелял немецкий танк. Он стрелял где-то тут, на высоте, так близко, что было ощущение, словно в двух шагах рвались ручные гранаты. Лодка кормой пошла к берегу, ткнулась в песок. Из нее выскочили двое, побежали к кустам. Сейчас же в той стороне, где только что стрелял танк, заскрипел, заиграл шестиствольный миномет. Разрывы легли в середине острова, над вершинами деревьев пополз дым. Все знали: остров был набит людьми.
– Похоже, наш старшина хотел переправиться, – сказал без улыбки Кравчук. – Ночью, видишь, темно, а днем все удобства: солнышко печет, танки стреляют. Благодать!
– Вечная история, – сказал Деревянко, – дрожит, аж листья падают. Ну, что ты скажешь, Бобков?
Бобков, сидя возле Деревянко на солнцепеке в шинели, накинутой на голое тело, – видна была просторная, сильная грудь, – старательно проверял швы нательной рубахи, говоря:
– Капитана нет, этот бы начесал старшине. На одной ноге вертелся бы. А то отъел морду – об лоб поросенка убить можно… Нашего-то он не особенно боится. На шею сел. Оседлал.
Сказал это веско, но как бы между прочим, занятый важной солдатской работой, и Кондратьев, все услышав, сконфуженно встал, нахмурив болевший лоб.
Снизу от Днепра поднималась Шура с полотенцем, по-мирному перекинутым через плечо. Влажные волосы возле маленького розового уха золотисто светились на солнце, как осенняя паутина. Чистоплотно белел свежий воротничок на тонкой шее; на погонах гимнастерки, плотно сжатой в талии офицерским ремнем и обтянутой на бедрах, блестели капли. Взглянула из-под мокрых ресниц на Кондратьева, серые глаза ясно-прозрачны после ледяной воды, сказала:
– Батюшки, какая неловкость! Попросили бы, что ли, товарищ старший лейтенант. Разве так пришивают подворотничок? И черными нитками насквозь. Снимайте-ка.