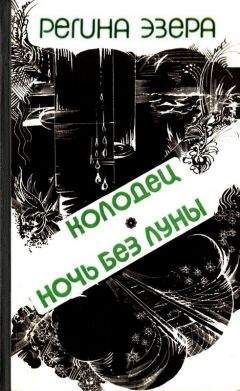Валентин Катаев - Святой колодец
До сих пор не могу понять: почему она вышла замуж именно за него? И каким он стал впоследствии? Он всегда казался мне посредственностью. Во всяком случае, он был недостоин ее. А, собственно говоря, почему недостоин? Студент-медик из хорошей семьи, с состоянием, наследник дачи на Среднем Фонтане, в перспективе – практикующий врач, недурен собой, некоторые даже считали его красивым – словом, вполне порядочный молодой человек, завидная партия, и, вероятно, безумно ее любил. Тогда было принято говорить: «Он ее безумно любит». И на фронт должен был идти не простым рядовым, вольноопределяющимся или даже прапорщиком, а военным врачом. Гораздо меньше шансов, что убьют. А что представляла из себя она, если не считать ее необъяснимой прелести, сводящей мужчин с ума? Тогда тоже принято было говорить: «Она сводит всех мужчин с ума». Если отбросить словесные украшения, она была просто-напросто бедная невеста, дочь промотавшегося бессарабского помещика, бесприданница, и на лучшую партию – как тогда говорили – вряд ли могла рассчитывать. Так что все было естественно, но помню, как страшно удивило меня известие, что она вышла замуж, хотя в то время моя любовь к ней уже давно прошла. Но это удивление было ничто в сравнении с чувством, которое я испытал в тот поздний вечер в неосвещенном городе, когда я ворвался к ним в комнату и увидел супружескую полуторную кровать, покрытую красным, стеганым, атласным, явно приданным одеялом и ее порозовевшие от волнения веки.
Они – он и она – молодожены, стояли передо мной радостно смущенные, так как это был самый разгар их медового месяца, а я был первый гость, пришедший к ним в их маленькую, почти бедную комнату, которую они наняли по объявлению, не желая жить ни у его, ни у ее родителей, сразу же заявив о своей независимости, тем более что уже шла революция и происходила переоценка ценностей. Они были счастливы в своем гнездышке, – с милым рай в шалаше! – и ее маленькие меховые туфельки застенчиво выглядывали из-под кровати.
Больше всего меня поразило выражение счастья на ее уже вполне женском лице.
Я стоял в дверях, ломая обеими руками свою защитного цвета офицерскую фуражку с дырочкой и овальным пятном на месте кокарды, которую я уже снял вместе с погонами и нашивками за ранения. Мы с ней давно не виделись, а в этой комнате с толстыми стенами я вообще был впервые. Она стала меня усаживать, а он – тоже в военной гимнастерке с университетским значком, без погон, но при этом в длинных студенческих брюках со штрипками – засуетился, видимо намериваясь разжечь керосинку со слюдяным закопченным окошечком, чтобы напоить меня морковным чаем с монпансье, что по теп временам считалось некоторой роскошью, он даже стал протирать полотенцем стаканы, а я не знал, куда деваться от жгучего стыда, и проклинал себя за то, что, как всегда, оказался тряпкой и согласился пойти к ней за деньгами. «Она тебе не откажет», – говорили друзья, это верное дело, у нее, безусловно, есть деньги, у молодоженов всегда есть деньги, а больше негде достать, и, что самое главное, это совсем близко, так что мы еще успеем заскочить с черного хода и взять у этого грека несколько бутылок сухого эриванского, единственного вина, которое еще осталось в городе, потому что нет ничего хуже, когда люди недопьют. Она тебя любит, она тебе даст, – они говорили, что если я не пойду к ней, то буду не друг и товарищ, а самый последний предатель и мещанин и так далее. Я говорил, что не желаю унижаться, и чувствовал, как у меня дрожат губы. А они твердили:
– Унизься, дурак, унизься. Ну что тебе стоит унизиться!
У меня уже шумело в голове, мне было море по колено, и я храбро пошел к ней, а они дожидались меня в подворотне, – они оба потом стали знаменитыми людьми, и их имена можно найти в энциклопедическом словаре.
Она, конечно, сразу поняла, что я пьян, но не испугалась, а стала еще приветливее, ласковые огоньки затеплились в ее глазах.
– Сколько лет, сколько зим, – сказала она и назвала меня по имени, как в детстве. – Вот так мы и живем. Садитесь и рассказывайте.
– Я к вам по делу, – через силу сказал я и тоже назвал ее уменьшительным именем. – Дайте мне взаймы рублей пятьдесят, я вам отдам не позже чем послезавтра, честное благородное слово.
Между нами всегда были такие возвышенные отношения – как тогда принято было говорить, «платоническая любовь», – и мне очень нелегко было вытолкнуть из себя эти слова, я бы их ни за что не произнес, если бы уже не был пьян. И я чуть не сломал лакированный козырек своей фуражки. Она была смущена еще больше, чем я, но и глазом не моргнула.
– Ах, пожалуйста, пожалуйста.
Она пошепталась с мужем, и Костя достал из-за иконы с двумя венчальными обожженными свечами и восковым флердоранжем странную ассигнацию в пятьдесят карбованцев, выпущенную гетманом Скоропадским, – деньги, которые тогда ходили у нас на юге. На бумажке были стилизованные, остро графические изображения украинца и украинки в свитках и сапогах работы знаменитого графика Егора Нарбута, странный фигоподобный герб, – и я как сейчас вижу грубую печать, толстую бумагу и плохие краски, желтую и голубую, этих денег, которые тогда уже почти ничего не стоили.
– Вы не беспокойтесь, я вам непременно на днях отдам, занесу. Когда вас можно будет застать дома? – говорил я, глядя на нее и удивляясь, как она похорошела, стала почти красавицей, и стараясь не замечать новенького атласного стеганого одеяла, от которого как бы распространялось по всей комнате алое зарево, в то время как на самом деле электричество не горело – не было тока – и комната освещалась самодельным светильником-коптилкой. Больше мы с ней уже не виделись, и последнее впечатление было: он, она, пятьдесят карбованцев, стеганое атласное одеяло, темный двор и друзья с поднятыми воротниками, которые ждали меня в темной подворотне, прижавшись к стене, а потом пустынная ночная улица, скользкие плитки лавы, по которым мы бежали, мокрая гранитная мостовая, винтовочный выстрел за углом и громыханье броневика, заставлявшего дрожать стекла в домах, начало переворота.
Конница Котовского с красными бантами в гривах лошадей лилась по чугунно-синим гранитным мостовым, высекая подковами искры.
Может показаться странным, что одновременно с этим на подоконнике стояли одна на другой несколько круглых никелированных коробок с двойными проволочными ручками. Но ведь неизвестно, что такое время. Может быть, его вообще нет. Во всяком случае, каждому известно, что «не существует истинно прекрасного без некоторой доли странности». Это выдумал не я. Это открыл Френсис Бекон, основатель английского материализма.
Доля странности заключалась в том, что в никелированной поверхности круглых коробок хотя и с мягкими искажениями и наплывами, но, в общем, довольно реалистично отражалась комната, наполненная голубыми девушками в марлевых масках, что отчасти напоминало «Принцессу Турандот» с ее увлекательным вальсом на губных гребешках. И в тот самый миг, когда я наконец разглядел плащаницу своего распростертого тела, очень яркий, но вместе с тем совсем не резкий свет операционной лампы, похожий на солнечный, ударил вдруг мне в глаза сверху, и я почувствовал позади себя присутствие пылающего шестикрылого серафима, перед лицом которого все расступилось.
Перстами, легкими как сон, моих зениц коснулся он, и я увидел с высоты двадцать шестого этажа город Хьюстон – тревожное смешение старинных деревянных домиков, окруженных галерейками, и диких пустырей с белыми небоскребами супермодерн, которые были беспорядочно расставлены то там, то здесь, как пластинчатые прямоугольные башни, транзисторы и аккордеоны; в пролетах между ними виднелись бесконечные плоскости техасских прерий и небо в длинных мутно-розовых и серо-голубых полосах мексиканского заката, как бы напечатанного в литографии начала прошлого века на глянцевой обложке ковбойского романа для железнодорожного чтения: знаменитый ковбой Буффало-Билль, крутя над головой лассо, стоит на стременах взвившегося на дыбы мустанга.
Я смотрел в пространства Техаса, стараясь ориентироваться по заходящему солнцу и представить, в какой стороне находится Мексиканский залив, а где расположен главный город штата – Даллас.
Странная мысль, вернее ощущение, овладела мною, как только я поселился здесь, в одной из стеклянных ячеек «Sheraton Hotel», напоминавшего издали раму сотового меда, поставленную ребром среди нескольких других подобных же стеклянных рам, где в каждой ячейке жила человекоподобная пчела, может быть даже личинка. Это было ощущение единства моего собственного тела и тела гостиницы, где меня поселили. Одновременно я был и человеком и зданием. У нас была общая структура, были общие клетки, обмен веществ, биотоки, химические реакции, рефлексы высшей нервной деятельности, работа пищеварительного тракта, кровообращение и температура, которая в виде многочисленных лифтов то поднималась бесшумно до сороковых градусов, то опускалась ниже нуля и на некоторое время замирала в состоянии анабиоза среди громадного пространства, устланного желтым мохнатым синтетическим ковром; на нем стояли страшно тяжелые сафьяновые кресла и диваны ярко-красного цвета, где сидели обычные посетители гостиничных холлов: переводчики, руководители делегаций, агенты компаний, коммивояжеры, переодетые полицейские, детективы и журналисты, увешанные портативной электроаппаратурой, набором фото– и кинокамер и зеркальных старинных блицев. Тут же в прямоугольном мраморном бассейне, откуда торчала одна-единственная изящная тростинка, над мозаичным дном в голубой мелкой воде плавала деревянная утка-селезень с золотисто-зеленым ромбом бокового перышка – и неуловимое, кругообразное движение искусственной птицы поворачивалось у меня под ложечкой, как легкое поташнивание, как напоминание о скрытом сердечно-сосудистом заболевании.