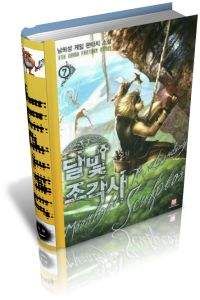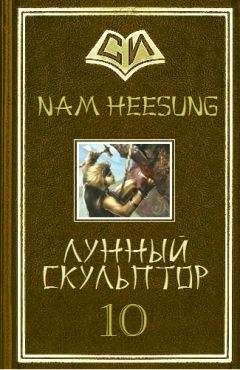Венедикт Ерофеев - Москва – Петушки
Итак, нововведение Семеныча укрепляло связь ревизора с широкою массою, удешевляло эту связь, упрощало и гуманизировало… И в том всеобщем трепете, который вызывает крик: «Контролеры!!» — нет никакого страха. В этом трепете одно лишь предвосхищение…
Семеныч вошел в вагон, плотоядно улыбаясь. Он уже едва держался на ногах, он доезжал обычно только до Орехово-Зуево, а в Орехово-Зуеве выскакивал и шел в свою контору, набравшись до блевотины…
— Это ты опять, Митрич? Опять в Орехово? кататься на карусели? с вас обоих сто восемьдесят. А это ты, черноусый? Салтыковская — Орехово-Зуево? Семьдесят два грамма. Разбудите эту блядь и спросите, сколько с нее причитается. А ты, коверкот, куда и откуда? Серп и Молот — Покров? Сто пять, будьте любезны. Все меньше становится «зайцев». Когда-то это вызывало «гнев и возмущение», а теперь же вызывает «законную гордость».. А ты, Веня?..
И Семеныч всего меня кровожадно обдал перегаром:
— А ты, Веня? Как всегда: Москва — Петушки?..
85-й километр — Орехово-Зуево
— Да. Как всегда. И теперь уже навечно: Москва — Петушки…
— И ты думаешь, Ше-хе-ре-зада, что ты и на этот раз от меня отвертишься?!
Тут я должен сделать маленькое отступленьице, и пока Семеныч пьет положенную ему штрафную дозу, я поскорее вам объясню, почему «Шехерезада» и что значит «отвертишься».
Прошло уже три года, как я впервые столкнулся с Семенычем. Тогда он только заступил на должность. Он подошел ко мне и спросил: «Москва — Петушки? Сто двадцать пять». И когда я не понял, в чем дело, он объяснил мне, в чем дело. И когда я сказал, что у меня с собой ни грамма нет, он мне сказал на это: «Так что же? бить тебе морду, если у тебя с собой ни грамма нет?» Я ответил ему, что бить не надо и промямлил что-то из области римского права. Он страшно заинтересовался и попросил меня рассказать подробнее обо всем античном и римском. Я стал рассказывать и дошел уже до скандальной истории с Лукрецией и Тарквинием, но тут ему надо было выскакивать в Орехово-Зуеве, и он так и не успел дослушать, что все-таки случилось с Лукрецией: достиг своего шалопай Тарквиний или не достиг?..
А Семеныч, между нами говоря, редчайший бабник и утопист, история мира привлекала его единственно лишь альковной своей стороною. И когда через неделю в районе Фрязево снова нагрянули контролеры, Семеныч уже не сказал мне: «Москва — Петушки? Сто двадцать пять». Нет, он кинулся ко мне за продолжением: «Ну как? У…л он все-таки эту Лукрецию?»
И я рассказал ему, что было дальше. Я от римской истории перешел к христианской и дошел уже до истории с Гипатией. Я ему говорил: «И вот, по наущению патриарха Кирилла, одержимые фанатизмом монахи Александрии сорвали одежды с прекрасной Гипатии и…» Но тут наш поезд, как вкопанный, остановился в Орехово-Зуеве, и Семеныч выскочил на перрон, вконец заинтригованный…
И так продолжалось три года, каждую неделю. На линии «Москва — Петушки» я был единственным безбилетником, кто ни разу еще не подносил Семенычу ни единого грамма и тем не менее оставался в живых и непобитых. Но всякая история имеет конец, и мировая история — тоже…
В прошлую пятницу я дошел до Индиры Ганди, Моше Даяна и Дубчека. Дальше этого идти было некуда…
И вот — Семеныч выпил свою штрафную, крякнул и посмотрел на меня, как удав и султан Шахриар:
— Москва — Петушки? Сто двадцать пять.
— Семеныч! — отвечал я почти умоляюще. — Семеныч! Ты выпил сегодня много?..
— Прилично, — отвечал мне Семеныч не без самодовольства. Он пьян был в дымину…
— А значит: есть в тебе воображение? Значит: устремиться в будущее тебе по силам? Значит: ты можешь вместе со мной перенестись из мира темного прошлого в век золотой, который «ей-ей, грядет»?..
— Могу, Веня, могу! сегодня я все могу!..
— От третьего рейха, четвертого позвонка, пятой республики и семнадцатого съезда — можешь ли шагнуть, вместе со мной, в мир вожделенного всем иудеям пятого царства, седьмого неба и второго пришествия?..
— Могу! — рокотал Семеныч. — Говори, говори, Шахразада!
— Так слушай! То будет день, «избраннейший всех дней». В тот день истомившийся Симеон скажет, наконец: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…» И скажет архангел Гавриил: «Богородице Дево, радуйся, благословенна ты между женами». И доктор Фауст проговорит: «Вот — мгновение! Продлись и постой». И все, чье имя вписано в книгу жизни, запоют: «Исайя, ликуй!» И Диоген погасит свой фонарь. И будет добро и красота, и все будет хорошо, и все будут хорошие, и кроме добра и красоты ничего не будет, и сольются в поцелуе…
— Сольются в поцелуе?.. — заерзал Семеныч, уже в нетерпении…
— Да! И сольются в поцелуе мучитель и жертва; и злоба, и помысел, и расчет покинут сердца, и женщина…
— Женщина! — затрепетал Семеныч. — Что? Что женщина?!
— И женщина Востока сбросит с себя паранджу! Окончательно сбросит с себя паранджу угнетенная женщина востока! И возляжет…
— Возляжет?! — тут уж он задергался. — Возляжет?!!
— Да. И возляжет волк рядом с агнцем, и ни одна слеза не прольется, и кавалеры выберут себе барышень, кому какая нравится! и…
— О-о-о! — застонал Семеныч. — Скоро ли сие? скоро ли будет? — и вдруг, как гитана, заломил свои руки, а потом суетливо, путаясь в одежде, стал снимать с себя и мундир, и форменные брюки, и все, до самой нижней своей интимности…
Я, как ни был пьян, поглядел на него с изумлением. А публика, трезвая публика, почти повскакала с мест, и в десятках глаз ее было написано громадное «ого!» Она, эта публика, все поняла не так, как надо было б понять…
А надо вам заметить, что гомосексуализм изжит в нашей стране хоть и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее даже так: целиком и полностью, но не окончательно. У публики ведь что сейчас на уме? Один гомосексуализм. Ну, еще арабы на уме, Израиль, Голанские высоты, Моше Даян. Ну, а если прогнать Моше Даяна с Голанских высот, а арабов с иудеями примирить? — что тогда останется в головах людей? Один только чистый гомосексуализм.
Допустим, смотрят они телевизор: генерал де Голь и Жорж Помпиду встречаются на дипломатическом приеме. Естественно, оба они улыбаются и руки друг другу жмут. А уж публика: «Ого!? — говорит, — ай да генерал де Голь!» или «Ого! Ай да Жорж Помпиду!»
Вот так они и на нас смотрели теперь. У каждого в круглых глазах было написано это «Ого!»
— Семеныч! Семеныч! — я обхватил его и потащил на площадку вагона. — На нас же смотрят!.. Опомнись!.. Пойдем отсюда, Семеныч, пойдем!..
Он был чудовищно тяжел. Он был размягчен и зыбок. Я едва дотащил его до тамбура и поставил у выходных дверей…
— Веня! Скажи мне… женщина Востока… если снимет с себя паранджу… на ней что-нибудь останется?.. Что-нибудь есть у нее под паранджой?..
Я не успел ответить. Поезд, как вкопанный, остановился на станции Орехово-Зуево, и дверь автоматически растворилась…
Орехово-Зуево
Старшего ревизора Семеныча, заинтригованного в тысячу первый раз, полуживого, расстегнутого — вынесло на перрон и ударило головой о перила. Мгновения два или три он еще постоял, колеблясь, как мыслящий тростник, а потом уже рухнул под ноги выходящей публике, и все штрафы за безбилетный проезд хлынули у него из чрева, растекаясь по перрону…
Все это я видел совершенно отчетливо и свидетельствую об этом миру. Но вот всего остального — я уже не видел, и ни о чем не могу свидетельствовать. Краешком сознания, самым-самым краешком, я запомнил, как выходящая в Орехово лавина публики запуталась во мне и вбирала меня, чтобы накопить меня в себе, как паршивую слюну, — и выплюнуть на ореховский перрон. Но плевок все не получался, потому что входящая в вагон публика затыкала рот выходящей. Я мотался, как говно в проруби.
И если там Господь меня спросит: «Неужели, Веня, ты больше не помнишь ничего? Неужели ты сразу погрузился в тот сон, с которого начались твои бедствия?..» — я скажу ему: «Нет, Господь, не сразу…» Краешком сознания, все тем же самым краешком, я еще запомнил, что сумел, наконец, совладать со стихиями и вырваться в пустые пространства вагона и опрокинуться на чью-то лавочку, первую от дверей…
А когда я опрокинулся, Господь, я сразу отдался мощному потоку грез и ленивой дремоты — о нет! Я лгу опять! я снова лгу перед Лицом Твоим, Господь! Это лгу не я, это лжет моя ослабевшая память! — я не сразу отдался потоку, я нащупал в кармане непочатую бутылку кубанской и глотнул из нее раз пять или шесть, а уж потом, сложа весла, отдался мощному потоку грез и ленивой дремоты…
«Все ваши выдумки о веке златом, — твердил я, — все ложь и уныние. Но я-то, двенадцать недель тому назад, видел его прообраз, и через полчаса сверкнет мне в глаза его отблеск — в тринадцатый раз. Там птичье пение не молкнет ни ночью, ни днем, там ни зимой, ни летом не отцветает жасмин, — а что там в жасмине? Кто там, облаченный в пурпур и крученный виссон, смежил ресницы и обоняет лилии?..»