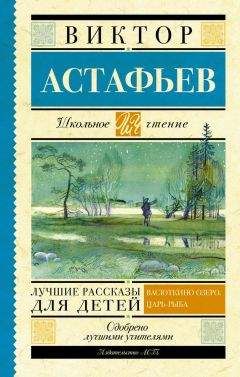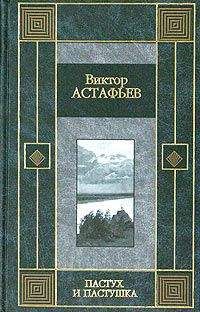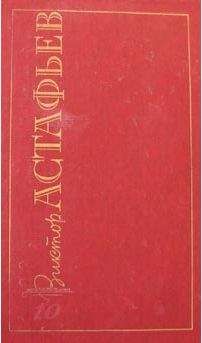Виктор Астафьев - Затеси
Осенью рябчик сперва держится возле покосов, полян и лесных кулижек иль на ягодниках брусники, рябины, иногда счастливой паре повезет уродиться возле деревенских хлебных полей, но здесь выжить любопытной птахе тяжело собачонки, ребятня, старые охотники то яйца вытопчут, то птенцов сведут, то и самого «жеребца», как зовут рябчика в Енисейском районе, завалят возле поскотины.
Его, рябца, любимая обитель — старые просеки, забытые дороги, покинутые вырубки. Идешь сентябрем по просеке, где прежде проходила телефонная линия на лесоучасток, по обе ее стороны рядами алеют кустарники, и ярче всех горит рябинник, идешь, будто по улице во время праздничной демонстрации, обочь тебя и впереди — все красно. Я бывал в странах, где круглый год лето и все зелено, и уяснил, что те земли мне не полюбить, не прижиться в них. Одно ожидание вечной весны для русского человека чего стоит! Да если еще живешь в Сибири, где зима так длинна и люта, если весь истоскуешься по теплу и зеленой траве…
Ценно то, что редко дается и долго ждется.
Я люблю весну с босоногого детства, с игр в бабки, в лапту на поляне, но вспоминается чаще и щемливей в сердце все же осень с ее пестрым празднеством и грустным расставанием с летом и теплом…
Когда трудно засыпается, а с годами это становится навязчивой и почти больной привычкой, я воскрешаю в себе прошлые видения. Вот неторопливо иду я по лесу, чутко вслушиваясь и всматриваясь в глубь его, замечая всякое в нем движение, взлет, вскрик, наутре лесной птичий базар. Всякий выход в лес, есть погода или нету, праздник, ожидание чуда лесного, удачи, обновления души, которая только тут, в глуби, в отдалении от современного шума и гама, обретает полный, глубокий покой. Иду, иду — и сердце мое изношенное, больное тоже, успокаивается, гуще лес, тише даль, наплывает сон.
О тайга, о вечный русский лес и все времена года, на земле русской происходящие, что может быть и есть прекрасней вас? Спасибо Господу, что пылинкой высеял меня на эту землю, спасибо судьбе за то, что она сделала меня лесным бродягой и подарила въяве столь чудес, которые краше всякой сказки.
КОММЕНТАРИЙ
Я никогда не вел дневников, и оттого у меня не появилось постоянной усидчивости. По этой же причине небрежно и нерегулярно работаю с записной книжкой. С одной стороны, это хорошо — тренируется и постоянно работает память, к сожалению, с возрастом никакие, даже самые привычные «сверхтренировки» не помогают, память начинает уставать и делаться непослушной.
Однако в любом возрасте у человека, тем более у творческого, есть желание запомнить и рассказать доверительно, в узком кругу, увиденное, поразившее воображение, интересные факты из жизни, истории или явлений природы, дорожные впечатления, мимолетные разговоры, просто поделиться интересной мыслью, мелькнувшей или застрявшей в голове, быть может, и интересной-то лишь одному автору, надеясь при этом, что если тебя не поймут, то хотя бы внимательно выслушают.
Впрочем, собеседник нужен всякому здравомыслящему человеку, иначе его задавит одиночество, и если его нет, собеседника, тогда человек склоняется к беседе с самим собой, доходит до бездонных глубин бытия, до отгадывания непостижимых вещей, необъяснимого, как мироздание, бренного и простого с виду человеческого существования, короче говоря, его одолевает вечная дума о смысле жизни. Эта сложнейшая работа человеческой души и разума и есть самопознание, но в силу дремучего непонимания чужой беды, боли, да и сути жизни, вечной неудовлетворенностью ею и самим собою доверительные раздумья, интимные откровения человека встречаются в наше время с недоверием, а то и с высокомерной насмешкой, презрением к «малохольненькому и блаженному». Особенно преуспела в этом наша провинциальная — не по географическому принципу, — сама себя заморочившая и оскопившая критика, смело, но безответственно называя сии раздумья «самокопанием». И надобно глядеть на «самокопателя» как на явление антиобщественное, чуждое героической и бурной действительности. При этом забывается, что настоящая поэзия вообще, а могучая, трагическая мировая поэзия была бы немыслима, невозможна без «самокопания», как, вероятно, немыслимо понимание и самой жизненной сути, ибо каждый человек есть отдельный мир, плохой ли, хороший ли, преступный, больной ли, но мир, и процесс самопознания есть процесс постижения смысла жизни «через себя». При этом процесс понимания мира титаном мысли, разрываемым внутренними противоречиями, скажем, Львом Толстым, постижение им архисложных философских глубин, и духовное напряжение неграмотного крестьянина, задающего себе вопрос: «Что есть я и земля?» — не менее сложен и не менее мучителен.
Жизнь, лишенная мысли, стремления «мыслить и страдать» и, страдая, открывать, пусть в зрелом возрасте, вроде бы рядом лежащие, будничные, но наполненные высочайшим смыслом Истины: «Всё и все, кого любим мы, есть наша мука»… — жизнь пустая, жвачная.
В литературе, в искусстве, в музыке, в живописи, особенно в кино, у нас понимают все и всё, толкуют обо всем с таким напором и самоуверенностью, что порой уж начинаешь думать, что не дорос, не улавливаешь «нового», отстал, не постиг «вершин», но появляется режиссер и ставит картины и спектакли на уровне нэпмановских «шедевров», выбрасывается на экран восточная, засахаренная до приторности мелодрама, вывешиваются «полотна» живописи, варьирующие все ту же тему «утра», в рамку которого вставляется та или иная «великая» личность, врывается в жизнь лохматая бесовщина, когда не отличаешь ни по голосу, ни по виду, кто баба, кто мужик, издают все, по совместительству вольному сами себя определившие в композиторы, песенники и поэты какой-то таежный ор заблудившегося в непроходимых дебрях человека, а им притопывает, прихлопывает, визжит, топчет друг дружку дикое стадо. И валом валящая, читающая, смотрящая, слушающая толпа обнажает уровень восприятия искусства, «накопления» по линии культуры.
Однако человек во все времена остается человеком, и потребность его в задушевной беседе никогда и никуда не исчезала и, надеюсь, не исчезнет. И пусть писатель — сам себе «поп и прихожанин», но жажда исповеди, в особенности у пожилых писателей, острее чувствующих одиночество, в наш суетный век томит их, заставляет искать новые пуги к собеседнику, и не случайно в последнее время очень разные писатели начали общаться с читателем посредством коротких записей-миниатюр — таким образом можно скорее «настичь» бегущего, занятого работой, затурканного бытом современного читателя.
Меня часто спрашивают на встречах и в письмах: что такое затеси? Откуда такое название? Чтобы избежать объяснений, первому изданию «Затесей» («Советский писатель», 1972 г.) я дал подзаголовок «Короткие рассказы». Но это неточно. Рассказов, как таковых, в той книге было мало, остальные миниатюры не «тянули» на рассказ, они были вне жанра, не скованные устоявшимися формами литературы.
«Затеси» — писались и пишутся всю жизнь, печатались в разных изданиях, в местных и центральных газетах, чаще всего в тонких журналах: «Смена», «Огонек», «Сельская молодежь», «Студенческий меридиан» и других. Появлялись и в «толстых» — в «Нашем современнике», «Новом мире», «Знамени», «Молодой гвардии», «Урале».
Первое издание книги было сделано в Москве в «Советском писателе» в 1972 году благодаря стараниям и мужеству редактора В. П. Солнцевой, которая где хитростью и опытом, где и мощной грудью защищала и отстаивала эти далеко не мятежного характера малютки-произведения, но и ей, человеку недюжинного характера, не удалось полностью отстоять книгу и обойтись без кастраций и подчистки текстов.
Когда работает и царит здоровая общественная жизнь и мораль, нет места индивидуальности, тужащейся что-то измыслить и сказать свое, да еще и сокровенное.
Второй раз книга вышла в более полном составе, с новыми «затесями», уже разделенными на шесть тематически объединенных тетрадей, в 1982 году на моей родине — в Красноярске. И опять потребовалось мужество и стойкость издателей, гибкость и сноровка местной цензуры. Книга вышла с неощутимыми потерями и совсем почти «невинными» по тому времени подчистками и поправками. Тем не менее главный редактор издательства потерял из-за нее место работы, цензору же в партийной конторе долго и популярно объясняли, что он просмотрел и подписал в печать.
И, тем не менее, все же популярно объясняющие смысл литературы и жизни партийные товарищи большую часть стотысячного тиража спрятали в им лишь известные укромные места, и книги выдавали лишь почетным гостям в качестве сувенира, приобретая, разумеется, книги для себя и для библиотек своих детей и родичей.
Мне бы гордиться этим, ликовать, да что-то не хотелось, все это очень уж надоело, уж очень ото всего этого я устал.