Николай Батурин - Король Королевской избушки
Женщина движется вдоль веревки — последняя, нет, еще одна рыбина, и вот она видна вся — высокого роста женщина с покатыми плечами и стройной шеей. Крутые бедра выгибаются резко, почти под прямым углом. Очертания лица напоминают летящую вверх каплю, а цвет — солнечный цветок, зрелый подсолнух. Ее глаза блестят, но совсем не так, как холодные льдинки, в них отражаются синева закатного неба и порывистость ветра. Она не девушка. Она женщина с тетеревино-черными волосами. В ней чувствуется много нежности, двойная нежность: кожи и слов. Размашистым шагом, повесив связку с рыбой на плечо, она идет от ракитника к избушке. Приближаясь, она излучает спокойствие, чего нельзя сказать о том, кто наблюдает за нею.
Женщина уносит рыбу в сени и тут же выходит с ведром в руке. Выливает похлебку в корыто, отгоняет своих слишком упитанных собак и зовет… Да уж, мои собачки ждать себя не заставят! Как видно, эта женщина знает таежные обычаи. Накрыв колени юбкой, она присаживается на корточки рядом с собаками. Поглаживает шею Черной, чего та не разрешает никому, кроме меня, — на шее у нее глубокий рубец, полученный как-то в драке с медвежатницей. И вот Черная уже рычит, но женщина не отдергивает руку, собака оскаливает зубы, но женщина и не думает убирать руку. Эта женщина, что сидит там на корточках, в белеющей юбке, с черными волосами, словно снежная кочка под мартовским солнцем. Эта женщина там!
Долго я буду торчать здесь в укрытии, точно мальчишка? Закрываю рот, облизываю пересохшие губы. Женщина занята собаками и не слышит хруста сосновых веток под моими ичигами. Останавливаюсь в отдалении, чтобы мой простуженный голос не обрушился на нее как снег на голову.
— Здравствуй, Подсолнух, — говорю я, называя ее на «ты» по таежному обычаю. В моем голосе, наверное, послышалось что-то вроде насмешки, но относилось это скорее ко мне, чем к ней. Иначе почему женщина не встает и не спешит с ответом? Почему продолжает гладить мою клыкастую Черную, положившую лапу ей на колени? Наконец, не поворачивая головы, она отвечает:
— Ничей я не подсолнух.
— Извини, — говорю я вежливо, — не знал, кого приветствовал. — Я вижу волосы женщины, ее ухо и руку. Заправленная за ухо седая прядь вплетается в иссиня-черные волосы, будто падающий откуда-то свет. Волосы прямые, с неровными концами — видно, сама их стрижет. Косынки летом она не носит, ухо коричневое, как озерная раковина. Рука, что снимает сейчас лапу собаки, узкая, с цветущими кончиками пальцев.
— Ничего, — говорит женщина глухим, как эхо, голосом. И, как бы улыбаясь чему-то, добавляет: — Я подсолнух, да семечки уж выбраны.
В ответ на это я хочу ей сказать что-то очень затасканное, вроде «по семечкам судят о зрелости», или напрячь все свое остроумие и сказать что-нибудь еще похлеще. Женщина словно чувствует это по моему долгому разгону и, не дожидаясь комплиментов, говорит:
— Твои собаки такие голодные.
— Да нет, только притворяются, — подхватываю я, радуясь, что разговор пошел такой, какому подобает быть между чужим мужчиной и женщиной другого мужчины. — Они у меня известные очковтиратели.
— Голодные очковтиратели, — говорит она, почесывая Рыжую за ухом.
— Это им нравится, — говорю я, присаживаясь на корточки рядом с женщиной, и та долго и очень внимательно, точно альбомную фотографию, разглядывает меня. По ее резко очерченным губам пробегает легкая усмешка. Вот черт, дернуло меня сюда подсесть, вот черт! Нет чтобы оставить свое лицо при себе — так нет же! Улыбка женщины как тень птицы — промелькнула и исчезла.
— А кому это не нравится, — говорит она. И добавляет: — Но это, говорят, их портит…
— Этих собак уже ничто не испортит, — бормочу я.
— Как будто водой можно попортить жаждущее дерево, — продолжает она, не обращая внимания на мое бормотанье. И замолкает. Почему она так долго молчит? Потом вдруг резко встает. Почему так резко, мне-то что делать? Заметив мое замешательство, она усмехается и, сразу посерьезнев, говорит:
— Я тут видела, вроде бы охотник шел сюда с двумя оленями…
— Тогда ты видела меня, то есть нас, — поправляюсь я.
— Я видела тебя, когда ты выходил из Елей-монахов на верхний луг.
— Монахов?
— То есть монашек, если так правильнее. И тогда я решила, что сюда идет охотник с собаками и двумя оленями.
— Тогда ты ошиблась, — говорю я и встаю напротив женщины. Ее голова поднята высоко, но я смотрю поверх нее, как до сих пор смотрел поверх пестреющих осенними красками осин, поверх заснеженных сопок, и думаю, что там, за этой женщиной, открывается совсем-совсем иной пейзаж. Но я не даю увидеть, что́ я думаю.
— Ты промок, — слышу я голос женщины. Она делает полшага вперед, чтобы потрогать мой рукав. Чувствую тепло ее тела, будто в нее закатилось солнце. Но я смотрю все же поверх нее. Я так должен, не то увижу ее в широком вороте рубашки, а я не хочу ни к кому никуда заглядывать.
— Я суше дождя, — отвечаю я отчужденно, и женщина отступает на те же полшага назад.
— Теперь дождь и тот суше тебя, — говорит женщина. — Ты промок, как омуль, а твоя одежда — как омулевые сети… Ступай в избушку и скинь ее там. Я тебе сухое дам, Хромины штаны и рубаху.
«Ага, Хрома», — думаю я. «Хрома?» — хочу я спросить.
Но не спрашиваю. Ни когда переодеваюсь в избушке возле открытой печки. Ни когда красуюсь перед женщиной, демонстрируя свою волосатую, квадратную грудь. «Как ящик замшелый», — думаю я. Чувствую, что, кажется, простужен, горю. Уйди, женщина! Но она смотрит на меня. Открыто, в упор. От внезапного холода у меня начинают стучать зубы, и я вижу, эта женщина жалеет меня. Этого мне еще не хватало, голубушка, рубашку и штаны я приму, а это оставь себе и своему Хроме. Я почти готов сказать ей это, я готов многим это сказать: пожалейте лучше себя, вы достойны жалости. Но я не говорю, я по-прежнему владею своими глазами, руками, ртом. Я начинаю переодевать штаны. Отвернись, женщина! Она и отворачивается, наклоняется, бросает в печку одно, второе, третье полено, затем встает, но в мою сторону уже не смотрит. Она не любопытна. Одежда чистая, пахнет озерной водой и зеленым мылом, а заплаты — длинными проворными пальцами женщины.
— Она тебе мала, — говорит женщина.
— Это я не по одежке велик, — говорю я. — Она тому впору, кому принадлежит, — говорю я. — Пахнет водой озерной и мылом, — говорю я ей.
— Лучше у меня нет, — говорит женщина. Подбирает мои ичиги и ставит на скамейку к печке, прижимает мои грязные вещи к груди. Мой свитер, штопанный нитками всех цветов радуги, вызывает у нее усмешку. Она уходит с моей одеждой. В открытую дверь я вижу — к озеру. Я не смотрю ей вслед. Не провожаю взглядом развевающуюся юбку. Осматриваюсь в избушке — осиновая мебель. Осиновый стол, осиновые скамейки, две осиновые кровати. Горький осенний осиновый запах. Большая, еще не просохшая русская печь из самодельного кирпича. На деревянных вешалках одежда, лошадиная упряжь, сети и все, что полагается для охоты. В красном углу, над осиновым буфетом, весельчак-солдат, рядом ухарь-ефрейтор, рядом с ефрейтором преисполненный достоинства старший сержант. Три фотографии, пытающиеся спасти от забвения самые веселые и содержательные мгновения одной жизни. На противоположной стене, где смолистые бревна оклеены газетами, под ситцевой занавеской угадывались женские платья. И везде субботняя чистота — вот и все, что выдавало здесь женщину. Остальное было скрыто в ней самой. Совершив круг, мой взгляд находит выход. В дверном проеме вижу женский портрет: тонкими легкими руками она трет там мою толстую, тяжелую от воды одежду, в то время как я своими большими неуклюжими руками ловлю здесь тени. Охотник за тенями — вот я кто. И еще шут гороховый, шут шутом — босой, в коротких портах, в рубахе до пупа стою беспомощно посреди избы. В конце концов сам себе прихожу на помощь — вспоминаю о данном накануне обещании.
Влажно-холодные гладкие камни словно прикосновение собачьих носов — я иду босиком вдоль берега озера, мимо шершавоголосого молодого тростника.
По приметам на берегу быстро нахожу свою «гайавату» — длинную остроносую лодку из бересты. Выливаю из нее воду, сталкиваю в озеро и сажусь на низкую скамейку. Сначала пропихиваюсь, потом гребу, выводя стреловидную лодку меж камышовых зарослей в заводь, а оттуда на открытую воду. Это круглый, как чаша, и довольно большой для таежных озер водоем… Клочья тумана словно развевающиеся белые гривы несущихся мимо коней. Гребу размашисто, чтобы освободиться от чувства холода и недавней близости с гороховым шутом. С тозкой на коленях напряженно вслушиваюсь в туман, как вдруг из-под самого носа лодки поднимается пара гусей. Парных гусей я никогда не стрелял. Оставшаяся весной в одиночестве птица не находит себе больше пары, и в разгаре лета, когда все остальные гуси давно поглощены семейной жизнью, с озер доносится плач одиноких птиц. Охотники, которые этого не знают, принимают этот плач просто за гогот.

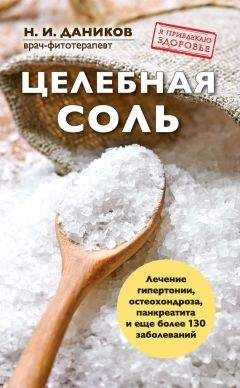
![Анатолий Бергер - Времён крутая соль [сборник]](/uploads/posts/books/258678/258678.jpg)

