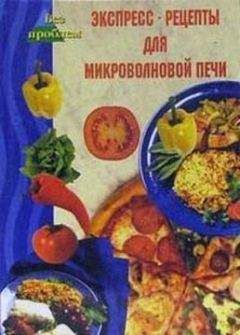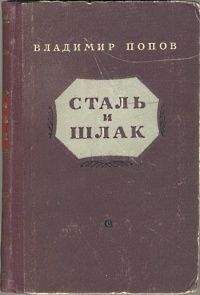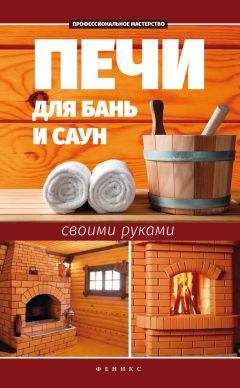Анатолий Маркуша - Грешные ангелы
— Как это понимать? — удивленно разглядывая нашу ночную работу, поинтересовался главный — тучный, празднично обмундированный генерал. — И для чего в таком количестве?
— Многократно поступающее на сетчатку глаза изображение способствует выработке автоматизированного навыка… — неожиданно голосом Шалевича произнес Носов.
— Умствуете, — заметил генерал, — на обыкновенную наглядную агитацию, как у всех людей… на такую времени не нашли, художниками не разжились.
Носов молчал.
«Только бы не прорвало батю, — подумал я, — с ним случается, и тогда уж Носова не остановить».
Но, видно, и залетный генерал что-то почувствовал и, сглаживая неловкость, поинтересовался миролюбиво:
— Кто же все эти чудища изображал? — Понятно, ему было в высшей степени наплевать кто. А спросил он так, для отвода глаз, играя в заинтересованность.
Нежданно-негаданно я очутился перед начальством. Генерал поинтересовался, какую должность занимаю, сколько боевых вылетов сделал, какие имею результаты, и высказал что-то не слишком глубокомысленное о пользе истребителей, сбивающих противника, после чего спросил совсем уже мирно:
— Так сколько времени, только честно, вы угрохали на эту картинную галерею?
— Втроем всю ночь старались, — беспечно ответил я. И только по бешеному взгляду Носова сообразил, что сморозил не то.
«Вот, черт возьми, — подумал я, — надо как-то исправлять положение».
— Такая форма наглядной агитации, — сказал я, — товарищ генерал, самая убедительная: читать ничего не надо, думать тоже, сама в голову входит и остается там.
— Еще один теоретик, — усмехнулся генерал. — А в редколлегии боевого листка тоже сотрудничаете?
— Стараюсь обходить, товарищ генерал.
— Почему же?
— Я — летчик, товарищ генерал, мое дело — летать, по возможности их, — я показал на изображение «Дорнье», — уговаривать…
Инспектирующий не удостоил меня ответом. Он отвернулся и пошел прочь.
В пространном акте инспекции, в частности, было потом записано и такое: «Среди некоторой части летного состава наблюдается недооценка агитационной работы средствами изобразительного характера — плакатами, лозунгами, призывами, этой одной из наиболее действенных форм воспитания личного состава. Со стороны некоторых летчиков имеют место отдельные случаи чванливого самоутверждения, к сожалению, не пресекаемые старшими офицерами».
Сделав свое дело, комиссия уехала. Как ни странно, но с этого дня Носов стал время от времени обращаться ко мне не просто по фамилии, а с некоторой издевочкой в голосе:
— Позвольте узнать, что думает по этому вопросу летчик Абаза?
«Летчик Абаза» звучало со множеством оттенков, но всегда активно иронически. Впрочем, настоящего зла Носов не таил, хотя именно с моей подачи схлопотал то ли «замечание», то ли «на вид».
Чтобы расстроиться всерьез, Носову нужна была неприятность покрупнее, а мелкое взыскание — плевать: как дали, так и спишут к очередному празднику.
После войны мы встретились лишь однажды. Лучше бы той встречи и не было. Но, как говорят, из песни слова не выбросишь.
На базаре в Чернигове, куда я завернул с дочкой за сливами, к нам подошел опустившийся, запойный мужик, заглянул мне в лицо тусклыми глазами и хрипло спросил:
— Летчик?
Был я в штатском, никакими «профессиональными чертами» вроде не отмечен, так что удивился и сказал:
— Допустим.
— На «лавочкиных» летал… — не то поинтересовался, не то сообщил неожиданный собеседник. — Отстегни трешничек.
Испытывая странное чувство неловкости и, как ни глупо, некоторого удовлетворения — узнают! — я сунул мужику пятерку.
Он взял деньги и ухмыльнулся:
— А летчик Абаза — на высоте!
И тогда только я сообразил: это же Носов! Наш Носов, лишенный крыльев.
Поговорить не пришлось: Носов поспешно удалился, даже не обернувшись.
Увы, боевые потери случались разные.
19
Когда-то по городу бродили китайцы — показывали фокусы, жонглировали во дворах. У них были непроницаемые, будто изваянные лица. Их представления шли в торжественном молчании. Когда зевак собиралось много и они начинали невольно теснить артистов, фокусник или жонглер брал в руки веревку с ярким деревянным шариком на конце и так ловко раскручивал шарик, что он свистел под самыми носами у зрителей и заставлял всех пятиться, расширяя свободный круг.
Мне нравились молчаливые китайцы, их незатейливый репертуар, игрушки из гофрированной бумаги — веера, шары, рыбы, драконы, которыми китайцы приторговывали по ходу дела. Но больше всего, можно сказать, на всю жизнь, поразил меня старик — между двумя кольями ему протягивали веревку и он, легко балансируя желтыми веерами, ходил по этой веревке, присаживался, ложился… Было что-то колдовское в непринужденности, с какой он держался на ничтожной опоре.
Возможно, этот номер особенно нравился мне потому, что сам я отличался исключительной косолапостью — спотыкался, падал, все на свете ронял.
В нашем дворе был газон, огороженный проволокой, натянутой на железных штырях. Загородочка чисто символическая, высотой в каких-нибудь двадцать пять или тридцать сантиметров. И я надумал: а не освоить ли мне искусство баланса сначала на этой невинной проволоке?
Кто-то разъяснил мне назначение вееров. Вооружившись двумя старыми вениками, я начал упражнения. Поначалу, едва вскочив на проволоку, я вынужден был тут же соскакивать, но постепенно мне стало удаваться задерживаться, сколько-то стоять и даже двигаться. В конце концов, хоть и с грехом пополам, я выучился ходить по проволоке между штырями, поворачиваться, подпрыгивать и следовать в обратном направлении.
Мои упражнения прервала зима.
Весной я сделал очень важное открытие — оказывается, смотреть надо не под ноги, а в самый дальний конец проволоки, и тогда ощущение равновесия делается острее, а вместе с тем, как бы это лучше выразиться, спокойнее себя чувствуешь.
К концу второго лета я заметно преуспел в своих стараниях. Во всяком случае, ходил, бегал, поворачивался на проволоке почти без осечек. Верно, садиться, а тем более ложиться, как старику китайцу, мне не удавалось, не дошел до такой кондиции…
На полевой аэродром прилетела к нам бригада цирковых артистов. Праздник! В будни войны ворвалась вдруг веселая, дурашливая струя из такого далекого детства. Пожалуй, никаких других артистов, а прилетали к нам и певцы, и танцоры, и декламаторы, не принимали так сердечно, так радостно, так по-свойски, как цирковых.
В программе был и такой номер — девушка плясала на туго натянутой проволоке, лихо носилась между двух довольно высоких опор и в заключение крутила заднее сальто.
Справедливости ради не стану называть ту акробатку необыкновенной красавицей, не буду слишком уж превозносить ее мастерство. И сейчас станет ясно почему…
А пока: карельский лес, над головами хмурое прохладное небо и ожидание — поднимут или не поднимут по тревоге: я смотрел выступление артистов из кабины дежурного истребителя, затянутый в подвесные ремни парашюта, пристегнутый к сиденью страховочным поясом, со шлемофоном на голове, все это и сделало свое дело.
Исполнительница номера на проволоке показалась мне королевой красоты, феей и вообще…
Потом, когда мы принимали наших гостей в летной столовой, я из кожи вон лез, чтобы она меня заметила, и угощал, и подливал, и вертелся. Может быть, перестарался в своем усердии. Но — от чистого сердца.
После ужина все вышли на свежий воздух, как-то сама собой возникла музыка. Завертелись танцы.
Признаюсь, я никогда не любил, да толком и не умел танцевать, так что постарался увести свою королеву подальше от танцующих, опасаясь «перехвата». И это мне удалось.
Совсем не помню, о чем мы говорили, даже не уверен, был ли какой-нибудь разговор. Зато помню другое: капонир, маскировочная сеть, натянутая на десятимиллиметровом стальном тросе. Помню, как я схватил пару шлемофонов — по одному в каждую руку, — поднялся на откос с намерением пройти по тросу на глазах королевы.
Иду. Покрываюсь легкой испариной, преодолеваю отвратительную дрожь в коленях. Иду. И мне кажется, что длина троса не пятнадцать метров, как было на самом деле, а все триста. Однако иду, прикидываю: осталось еще шага три… можно бегом, так легче. Пробегаю, спрыгиваю на землю и… подворачиваю ногу. Вместо объятий королевы, на которые я рассчитывал, попадаю в госпиталь с переломом ключицы.
Перелом ключицы — штука сама по себе достаточно неприятная, но если прибавить: следствие (не было ли преднамеренного членовредительства — акции в военное время трибунальной), бесконечных вопросов доброжелателей (как тебя угораздило?) и не менее настойчивого любопытства недоброжелателей (а циркачка пожалеть успела?), долгого нелетного состояния, мучительных раздумий и одиночества, то приходится признать — так я сам себе устроил одну из крупнейших неприятностей в жизни.