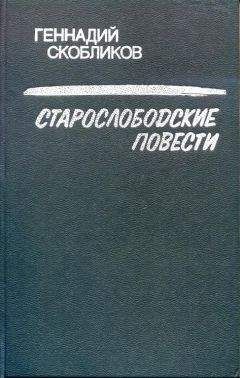Кирилл Шишов - Золотое сечение
Под Новый год не было надежды на встречу его в чьем бы то ни было доме: Анна Львовна была больна, а идти в родительские дома мы, естественно, не могли. И тут пришла мне шалая мысль — встретить Новый год вдвоем в ресторане, причем именно на вокзале, среди случайных абсолютно незнакомых людей. Грубая, серая, каменная громада замка моего детства и грациозная, тонконогая, с сирийским разлетом черных бровей моя подруга — как захотелось мне сочетать их знакомством, столкнуть их на пороге моего восемнадцатилетия, тайно надеясь осознать возможность будущего у такого союза.
Сейчас, вспоминая то время, я вижу его распавшимся словно по частям, кусками, отрывками. Помню, как меня беспокоила проблема средств: я кончал школу, и денег, естественно, у меня не было. Пришлось продать что-то из книг, и, верно, попали туда и отцовские, давние, пережившие войну и голод, а ныне с легким сердцем отнесенные мной к букинисту, чтобы даже своей смертью дать мне — наследнику — минуту радости.
Помню тревожный зимний блеск, пепельные тени. Ее — приближающуюся, запахнутую в новую шубку, с радостными возбужденными глазами, запахом острых духов и бензина. Потом вижу ее уже раздевшуюся, поправляющую перед зеркалом волнистые волосы, и я ощущаю, как давно не видел ее вот так — без верхней одежды, в легком газовом платье, с пупырышками на смуглых предплечьях, с вырезом сзади, открывающим тонкие нежные косточки позвонков. Меня возбуждало все: едва уловимые полоски бретелек под тканью, стремительные коричневые линии швов на бежевом фоне капрона, натянутого на длинной бутылочной голени, узкие лакированные лодочки туфель, составлявших единое целое со стопой, хрупкой лодыжкой и голеностопом — приподнятыми, словно на ладонях. Она поворачивает ко мне свое лицо — и я вижу, как оно бесконечно прекрасно и мучительно для меня: с крутизной подбородка, детского и капризного, с напряженной шейной мышцей, уходящей к мочке уха, где пульсирует голубая жилка, с гордым припухлым ртом…
Она заговорщически подмигивает мне и шепчет на ухо: «Я обманула дома всех, даже сестрицу. Она следила за мной до троллейбуса, а я пересела и уехала к тебе. Пусть думают, что я у подруги». Потом мы проходили по залу — громадному, гулкому, с хрустальными люстрами, желтизной лиц, оборачивающихся навстречу нам, черно-алебастровыми фраками официантов, похожих на пингвинов. Мы садимся в углу, за укромный столик, который я раз пять до этого, днем, проверял, волнуясь и стесняясь, стараясь казаться взрослее в разговоре с развязным метрдотелем.
Потом у меня полный провал в памяти. Гром музыки, голоса, звяканье посуды — все обрушилось на нас стеклянным водопадом, мы почти не слышали друг друга и объяснялись знаками, и ее лицо — возбужденное и улыбающееся — стало бледнеть, синева появилась под глазами. Она словно отдалялась от меня, часто приглашаемая подвыпившими мужчинами с маслеными взглядами и короткими мясистыми шеями, преувеличенно четкими поклонами и любезным отодвиганием кресел. Я танцевал с ней тоже, но редко, оглушенный и измученный волнениями от дневной беготни, от долгих одиноких пауз, когда внешне безразлично, но с бьющимся сердцем украдкой следил, как она плывет в колеблющейся толпе, как запрокидывает в вальсе назад голову и убирает быстрым движением волосы со вспотевшего лба. Когда она возвращалась, то виновато смотрела на меня, словно говоря: «Ты сам пожелал этого, что же я могу поделать», — у меня не хватало решимости сказать очередному партнеру: «Следующий танец со мной…» Я вдруг снова почувствовал себя, как недавно на катке, — беспомощным и слабым и мучился, пережевывая жесткий лангет и сглатывая теплое сухое вино…
Прошел час, все встали с бокалами в руках, слушая бой курантов. Вдруг она, стоя рядом, припала на секунду сухими губами к моей щеке и быстро прошептала: «Алеша, что бы ни случилось — мы отныне друзья! Мы нашли друг друга, не так ли?..» Я, раздосадованный, что шло не так, как мне рисовалось в воображении, уязвленный ее решимостью, всеми этими танцами и знаками внимания к ней, ее красоте и молодости, промямлил что-то в ответ, стушевался снова, и на этот раз окончательно. Вечер кончился уныло и трагически: она замкнулась в себе, больше не отвечала ни на какие приглашения, даже лощеных проворных лейтенантов, пристукивающих каблуками, и долго, почти давясь от слез, мешала пластмассовой трубочкой в бокале, нанизывая воздушные пузырьки. Я мял салфетки, бегал в буфет за какими-то конфетами в коробках, с ужасом подсчитывал в уме затраты и завтрашние оправдания перед матерью и обреченно чувствовал, что все потеряно и она презирает меня, — трусливого, комнатного, показушного…
Мы расстались молча у ее подъезда, когда уже светало, молочная дымка обволакивала улицы и резко-металлически скрипела входная дверь от мороза. Долго я слушал, как она шла туда, в каменную нору дома, как хлопнула дверь — и все стихло. Мы не встречались с ней долго…
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Ты без меня словно дым без огня…
Кончилась моя школа. Промелькнули и растаяли выпускные экзамены, ломота в висках от ровных печатных строчек учебников, сутолока и стремительность выпускного бала, когда все страшно распахнуто впереди, жутко и радостно от похвальных слов, от свободы выбора и соблазна самостоятельности. Приехавший из соседнего города брат отца — с серебром волос, крупным лошадиным лицом и каменными чертами лица — решительно отказал мне в писательстве. «Научись зарабатывать на хлеб», — сказал он на семейном совете, где перепуганные моей решительностью домашние женщины только плакали и беспомощно ждали от него поддержки. «У нас есть университет — учись на журналиста. Я помогу», — и при этом он сердито покосился в сторону отцовского книжного шкафа, где, по его мнению, стояли единственные виновники моего легкомыслия. Сам он был инженером, ценил в людях практический ум и напрочь отметал мои разглагольствования о призвании, о зове души и о первых удачных опытах в литературе. «Чепуха! Все писатели имели профессию: Чехов, Короленко, Гарин-Михайловский… Сможешь — пиши, но имей кусок хлеба», — снова повторял он, считая разговор оконченным.
Так я очутился в городе С., где началась моя новая жизнь сначала на квартире у дяди, потом, после первой сессии, в общежитии, где у меня появились новые друзья, новые знакомства и новые радости. Я полюбил этот город, окруженный уже не жалким лесостепным березняком, а густым сосновым бором, с его подлинной древностью, старинными особняками заводчиков и ультрамодерными коробками конструктивистов тридцатых годов. Я увлекся в нем с первого курса историей прошлого моего края, подогреваемый лекциями и семинарами профессора Горькавого — тщедушного сухонького старичка, похожего на зяблика, с тихим вкрадчивым голосом, корректными манерами, с неизменным термосом с чаем, который он носил в лысом обтерханном портфельчике, легоньком, как он сам. Мощные сдвиги народов, рожденных на склонах Рифейского Хребта, вставали на его занятиях, увлекая нас загадочностью и влиянием судеб мировой истории. Сарматские, булгарские, угорские предания смешивались в коловращенье рас, прародителем которых был Урал, будили мысль, освещая догадками вспышки войн, шедевры искусства, этнические разноречья. Косоглазый, широкоскулый язычник, льющий бронзовые фигурки зверей и птиц в каменной форме, как живой вставал под окающим, рязанским говорком профессора, наскальные рисунки зубров и оленей трепетали в неверном отблеске пещерного огня. Певучие стрелы отскакивали на излете от вековых сосен, и гул погребальных тамтамов дразнил воображение. А в общежитии по вечерам мы жарили картошку, впервые постигая тайны кухни, спорили о международном положении и о праве старост назначать стипендию троешникам, готовили жженку из привозного башкирского меда и ямайского рома, и все было изумительно хорошо, молодо и беспечно. Я сотрудничал в университетской газетке — крохотной, остроумной, с обязательным чествованием за удачную статью и званием недельного «короля прессы», достававшимся мне иногда за хлесткие зарисовки с субботников или соревнований. Так постепенно я забывал о родном городе, о крохотном вокзальчике, где некогда устремилась вдаль моя мысль о девочке, что училась все еще в школе и носила фартук с оборками и, верно, давно нашла себе уверенного рослого парня, способного ее защитить.
В общежитие, на нашу голубятню — как звали мы комнатенку на шестом этаже, выдвинувшуюся ящичком над лестничной клеткой и покатой крышей, — собиралась бывалая молодежь: историки с толстыми выпуклыми очками, махровыми шевелюрами, в глухих свитерах и с бородками, некрасивые консерваторки с фортепьянного или дирижерского — по-птичьи нахохленные, остроносые, с лиловыми губами и желтыми от табака пальцами. Заглядывали геологи — обветренные, загорелые парни с гитарами, размашистыми жестами и тяжелыми бронзовыми ладонями. То была пора первых песен, сочиненных в походах, на привалах, в экспедициях, и я жадно слушал рассказы об открытии алмазных и нефтяных залежей, о поисках могил декабристов, о следах древней металлургии медного века где-нибудь в распадках возле Чусовой или Уреньги. Писал домой редко, зато к дядьке, вернее, к его жене — Олесе — заходил почти ежедневно, подкармливаясь у нее обедами и давая ей обильную пищу для описаний моей наружности домашним. Квартирка их в деревянном доме возле картинной галереи полюбилась мне еще тем, что там я мог по вечерам оставаться совершенно один. Дядя с женой любили театр — местную оперетту — и на старости лет, оказавшись без детей, баловали себя похождениями Сильвы, цыганских баронов и мистеров Иксов. Я сидел за крохотным ломберным резным столиком, смотрел во двор — окруженный сараями, дровяными складами и гаражами — и предавался маранию бумаги, твердо веря в недалекое восхождение свое как мастера газетной полосы, как чудо-журналиста с острым наблюдательным взором. Именно на адрес дяди и пришло ко мне единственное письмо от Нее…