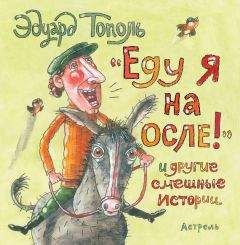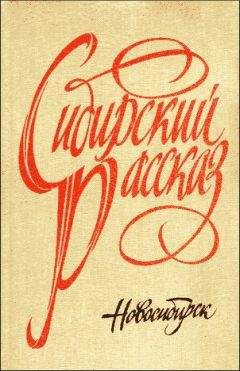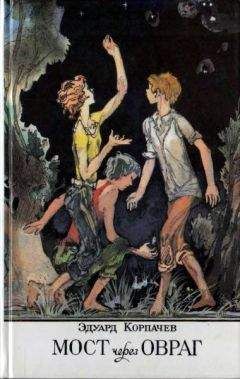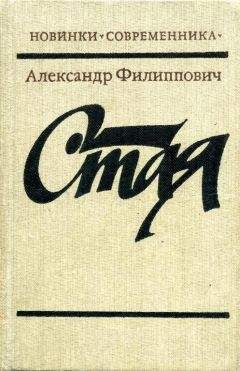Эдуард Корпачев - Стая воспоминаний
Вот суббота, вот распахиваются подмосковные пространства по обе стороны стремительной обтекаемой электрички, и куда они с Вандою едут, куда? Все ближе, ближе к Варсонофьевскому переулку, и вот сейчас появится меж небом и землею балкончик, сквозь гнутые спицы которого, помнится, свисала бахрома какого-то коврика, дзынькнет камешек о стекло — и выпорхнет Вандочка, тоненькая и пугливая, с голыми перламутровыми коленками. Сон, фантастический сон, и единственное, во что еще мог Журанов поверить, — это как нахлынет на него там, куда они едут, состояние чистоты и доверчивости, так знакомое по юности, по тем дням в Варсонофьевском переулке. И его, как и давеча, почему-то настораживало предстоящее знакомство не с мужем Ванды, а с ее сыном, которого зовут, наверное, Валерик или Женя.
— А сколько лет Валерику? — спросил он, даже придвигаясь к Ванде.
— Откуда ты знаешь? — изумилась она. — Откуда ты знаешь, как зовут сына?
И потом, когда он пожал плечами и усмехнулся загадочно, Ванда с какой-то строгостью стала говорить, какая завидная уверенность у этих молодых людей, как они убеждены, что лишь они явились прожить жизнь ярко и с блеском, и Журанов, мельком взглядывая на Ванду, узнавал свои предчувствия насчет Валерика.
Он еще более уверился в справедливости своих предчувствий уже после, как только оказался на этой зимней даче, в этом раю, как только Валерик, гибкий, такой радушный, с повышенной приветливостью обратился к нему и стал помогать раздеваться, стал плащ его вешать и ловить слетающий с вешалки плащ так бережно, точно елочное украшение ловил. Журанов, наблюдая эту суету, угадывал в нем недоброжелателя, угадывал даже, как он возражал матери, Ванде, иначе бы не мельтешил так в первые минуты знакомства. И когда они, Журанов и Валерик, взглянули глаза в глаза, Журанов понял, что Валерик вмиг сообразил то, о чем догадался он, Журанов, и вот теперь честным взглядом Валерик пояснял, кажется, что можно оставаться и вот такими, улыбчивыми и предупредительными врагами.
А муж Ванды все переминался, будто хотел повернуть назад, во внутренние комнаты, щурился, заметно смущался, и это смущение очень понравилось Журанову, да и сам он, круглолицый, выбритый и оттого, наверное, словно бы озаренный, очень располагал.
— А вот подите сюда, — пригласил Валерик, распахивая легкую фанерную дверь внутрь небольшой комнаты. — Нравится? Тут, правда, мои фолианты, я иногда загляну, возьму томик и скроюсь. Можно?
Ласковым голосом Валерик давал ему понять, что в этом приюте фолиантов, среди этих книжных полок, в этом домашнем книгохранилище, в этом отсеке, служащем и кабинетом и спальней, Журанов должен чувствовать себя гостем, постояльцем, и что всякий раз он, Валерик, будет напоминать ему, что гость есть гость. Вот уже нисколько и не притягивало Журанова это временное его жилье, пускай даже и рассчитывал он провести здесь всего несколько дней, оправиться от потрясения, а там, на дальнейшую жизнь, уже был особый план. Так скверно в его годы лишиться своего дома!
— Располагайтесь, — напомнил Валерик с едва заметным поклоном.
— Я ведь человек с того света, — небрежно обронил Журанов, — мне больше всего хочется теперь ходить. Вот этот лес я вижу как бы впервые!
И, довольный своей находчивостью, тем, что сразу же, едва пришел он в этот дом, сразу же и уйдет бродить по лесу, Журанов посмотрел за окно, на эту поляну, подступившую к самому дому, на деревья, каждое из которых уже сорило листья, на частокол стволов. И так притягателен был сумрак чащи, так звало его туда, словно он был мальчик и ждал приключений.
— Я вам покажу этот лесок, — охотно стал одеваться и молчавший до этого муж Ванды.
И все тут переглянулись с каким-то облегчением: Журанов — с добродушным мужем Ванды, сама Ванда — с сыном. Словно бы все позабыли сразу о нарочитой, изощренной приветливости Валерика, словно бы всем и пригрезилось общее, что связывало их всех, — ну хотя бы тот балкончик, который, помнится, никогда не прятал от дождя, настолько был маленький. А может, лишь ему, Журанову, представилась та огражденная гнутыми прутьями махонькая колыбелька на высоте.
Шаркающий звук пилы, который доносился с соседнего двора, заставил его посмотреть туда, за терновниковые заросли вдоль забора, но никого из пильщиков Журанов не разглядел. Пила взвизгивала поначалу, а потом, уходя в дерево, шаркала все сытее, и Журанов знал, что звук этот на расстоянии истает вовсе, перейдет в шум деревьев.
— А вы не охотник? — внезапно спросил у Журанова его добродушный спутник.
6Как будто и вправду Журанов был охотник, с горячими глазами любил снимать со стены ружьецо и протирать, сдувать с него пылинки, гильзой отмеривать дробь и сыпать этот железный горошек в дрожащую ладонь — до того он обрадовался разговору об охоте, заглядывать стал в лицо своему добродушному спутнику, вопрошать у него и ахать, хотя и не был он, Журанов, охотником, а только мечтал побродить с ружьем по лесам, только завидовал своему коллеге по институту Сечину, Сергею Христофоровичу, который всякий понедельник так складно и захватывающе рассказывал о своих приключениях, будто ничего интереснее охоты и не было на свете. И вот теперь, вспоминая Сергея Христофоровича Сечина и увлекаясь разговором об охоте, Журанов находил с проницательностью, отчего прежде так занимали его рассказы институтского охотника, подобно тому, как теперь казались такими умными рассказы вот этого невооруженного охотника: чтобы не помнить своих тревог, не помнить той единственной комнаты своей, не знать ничего. Да, мы порою так рады незамысловатым словам и готовы слушать человека, рассказывающего об охоте или спорте, и вот мы слушаем, слушаем, и наши умные дела меркнут перед чужими увлечениями, нам тоже хочется жить просто, не отягощать свою жизнь разными сложностями. Слушая спокойного человека, мы завидуем ему и даже не предполагаем, какие противоречия и сомнения беспокоят и его душу. Счастливый человек, думаем мы.
Он был вовсе не прост, счастливый Вандочкин муж, и потом, когда они исходили немало, развлекая один другого все тем же разговором об охоте, Журанов спохватился, что охотник этот очень понял его настроение, его неустроенность и былями своими хочет его усыпить. Журанов даже почувствовал оскорбление и замолчал.
А спутник мгновенно уловил перемену в его настроении, больше не стал докучать, шел и посвистывал, такой сообразительный, такой наблюдательный, как и полагается быть охотнику.
Все-таки исходили они немало, теперь возвращались усталыми, точно плотно поели. Журанов никак не мог припомнить, что такое он должен не упустить, о чем неважном он должен не забыть, и, едва услышал шаркающий звук пилы, вздохнул: ах да, ведь он ждал этого звука пилы! Всякий пустяк его радовал теперь, и вот он вслушивался, как пила взвизгивает поначалу, но вскоре уже приглушенно членит дерево, а под конец опять пронзительно зудит, и почти одновременно слышится мелодичный звон отставляемой пилы и стук отпиленного чурбана.
Может быть, он и постоял бы некоторое время на крыльце, дыша запахом опилок, если бы не померещился ему из распахнутых дверей знакомый голос, уж очень знакомый голос, будто бы голос Ирины.
— А мы хотели вас искать, Дмитрий Алексеевич, — и тревожно, и в то же время словно бы игриво произнесла Ирина и знакомым, сто раз знакомым движением провела по виску, поправляя мнимое колечко волос.
В первое мгновение он едва не потерялся, точно все это происходило там, там, в той единственной комнате, где оставались его вещи, где ходила, где жила тихая, вежливая жена его, Майя. Но когда он подумал, что Ирине в клинике дали новый адрес его, оставленный им для сотрудников института, и что приехала она все же одна, то уже с любопытством взглянул на эту бедную девочку, которой нелегко в эти минуты, как ни приветлива она. Бедная, бедная, думал Журанов, глядя на эту девочку; бедная, бедная. «Мам, я пошла», — слышал он теперь другой, давнишний голосок ее, ломкий от своего превосходства, и словно впервые прислушивался к ней, выросшей на его глазах, и словно впервые видел, какая она красивая девочка, красивее мамы, хоть и совершенно не похожа на красивую свою маму. Даже страшно за нее, такая она красивая, черноглазая, чернобровая. Бедная, бедная, думал Журанов, припоминая отношение этой девочки к себе и сочувствуя ей теперь.
— А мы хотели вас искать, Дмитрий Алексеевич! — воскликнул затем и Валерик, и это был уже немного другой Валерик, не такой, как утром, как раньше, тоже улыбчивый, как утром, но сейчас по-настоящему душевный.
И Журанов, вдруг увидев сразу, как на одном портрете, Валерика и Ирину, почувствовал расположенность этого мальчика и этой девочки друг к другу и что они уже познакомились и, кажется, понравились один другому, что они ждали его и то и дело спрашивали, ну где же бродит Дмитрий Алексеевич, хотя на самом деле хотели, чтобы он подольше бродил. Им и теперь еще было хорошо, это же так заметно.