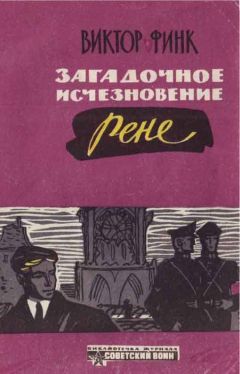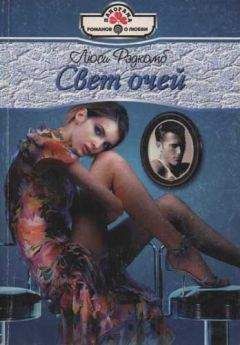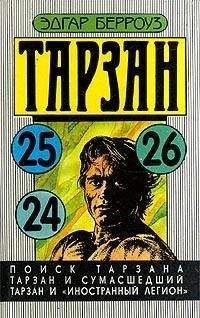Виктор Финк - Иностранный легион
Не скрою от Вас, я задрожал при мысли, что это могло быть помилование. Командир положил телеграмму в карман не читая. Лейтенант опустил шпагу. Как я и рассчитывал, Энгельберт упал тотчас после залпа, хотя он даже не был ранен. Дело в том, что ни в моем положении, ни в положении Энгельберта фон Виллерштайна люди больше не дерутся на дуэли. Но я не хотел все же, чтобы последние счеты между нами подвел этот сброд, именуемый Легионом».
— Вот как?! Сброд? Слышите, старики? — злобно проворчал Кюнз. — Мы для него сброд! Чего же вы к нам прилезли, господин граф?
Однако никто Кюнза не поддержал. Ренэ смог продолжать:
— «Заряжая ружья своих двенадцати солдат, я положил всем холостые патроны. Энгельберт упал от испуга. По французскому уставу, на мне, как на дежурном унтер-офицере, лежала обязанность добить его выстрелом из револьвера. У французов это называется coup de grâcе— выстрелом милосердия. Я благодарю бога мести, владыку страданий и радостей человеческих, за эту минуту. Она была единственной счастливой за целые десять лет жизни.
Вам, пожалуй, будет интересно узнать, что телеграмма, поданная полковнику на месте казни, действительно содержала помилование. Бог послал твердое сердце нашему командиру.
Благоволите принять, графиня, уверение в самых высоких и почтительных чувствах Вашего преданного сына Фридриха-Иоганна-Лоренца-Альберта графа фон Эрлангенбурга, умершего в звании сержанта второго полка Иностранного легиона под именем Анри Борегар».
Лум-Лум сидел молча, насупившись, Уркад пыхтел своей громадной трубкой, Кюнз и Адриен опустили головы. Один только Джаффар не мог сидеть спокойно. Он щелкал языком, хлопал себя по коленям и хихикал. Джаффар-дурачок носил свое прозвище недаром.
— В общем, выходит, он был несчастный человек, этот граф! — сказал я.
Отозвался Джаффар:
— Несчастный? Ты сказал — несчастный? Если бы я имел мула, я бы хотел, чтобы он был хоть немного умнее тебя, Самовар!
Джаффар помолчал, чтобы дать мне ответить на его колкость, но мне не хотелось вступать с ним в ссору.
— Вот еще один тип, которого загнала к нам эта их честь! — сказал Адриен Бов.
В канье опять стало тихо, только картошка хрустела и чавкала в руках Джаффара. Он сидел рядом с трупом Борегара и деловито чистил картошку. Шелуха падала турку на колени, покрытые мешковиной.
Кусочек шелухи упал на Борегара. Я подобрал и выбросил. Это почему-то привело Джаффара в бешенство.
— Бережешь его честь? Честь его фамилии? — злобно воскликнул он.
У Джаффара на рябом лице, там, где у других бывают глаза, были щелки, и в этих щелках сидела пара мышей. Сейчас, напуганные вспышкой Джаффара, мыши бегали взад и вперед. Джаффар стал распаляться.
— За первого барана, которого я украл, меня били! — кричал он. — Барана отобрали. За второго — бросили в яму. Барана опять отобрали. У них такая манера — отбирать краденых баранов! А жрать нам что? Родители сидели голодные. Продали сестренку одному джентльмену из Каира, но он надул нас: он увез сестренку и не заплатил. Опять все сидели голодные. Тогда про нас стали говорить, что мы не имеем чести: сын — вор, дочь — девка, а родители — нищие!
Джаффар сгреб в левую руку тряпку с картофельной шелухой, в правой он сжимал кухонный нож. Лицо Джаффара шло пятнами.
— Как мы все попали в Легион, старики? Очень просто: мы искали хлеба и солнца, но для нас не нашлось ни хлеба, ни солнца! Поэтому жизнь схватила нас каждого за кадык и выбросила. Либо иди в тюрьму, либо иди в Легион! Только чтобы подальше от богатых, от графчиков, вроде этого! Чтобы мы их не зарезали, не обокрали, не обидели! Потому что они богатые! У них даже есть честь. Мамаши у них старые шлюхи, но чести у них сколько хотите! Потому что они богатые…
Джаффар паясничал. Рядом с покойником это было омерзительно. Но старики все же слушали его. Что-то было в его словах особенное, волнующее. Старики слушали с сочувственным вниманием.
— Он правильно говорит, — заметил Кюнз. — Жизнь хватает человека за кадык и выбрасывает на свалку, на пустыри рядом с тюрьмой. И человек барахтается, чтобы только как-нибудь остаться по эту сторону! Потом он видит — дело плохо — и уходит в Легион! Турок правильно говорит!
— Турок правильно говорит! — подхватил Джаффар. — Турок говорит, все бегут в Легион. Умный ни во что не верит и спасается от несчастья, дурак верит и ищет счастья. И все одинаково попадают в пустыню и находят шакалов и змей. Да еще голодных арабов, в которых надо стрелять бац-бац, чтобы они не бунтовали против матери Франции.
Странно, я никогда не слышал во взводе подобных речей. Старики не любили рассказывать о своей службе в Легионе, о себе, о пережитых крушениях.
Печать непоправимого лежала на их жизнях. Эти жизни были навеки запихнуты в ранцы и подсумки и уже не могли уйти никуда от кабака и казармы. Они были искалечены, изуродованы. Их уже нельзя было узнать, уже трудно было поверить, что это в самом деле человеческие жизни. Но говорить об этом легионеры не любили.
Теперь эти люди были взбудоражены, оскорблены.
Они не придавали никакого значения тому, что Борегар оказался немцем, подданным неприятеля. Это ничего не значило в их глазах, как ничего не значило немецкое происхождение Миллэ. Шакала ненавидели, но никто ни разу не назвал его бошем или фрицем: в бумагах человека пусть копается начальство.
Как мне казалось, старики выбрасывали сержанта Борегара из своего братства по другой и совершенно особой причине.
Война тянулась уже больше года. Солдат уже почувствовал, что его обманывают, что его дурачат и унижают. Солдатская злоба бродила и бродила. Темная и беспомощная, она искала правду и кое-как добиралась до нее. Джаффар и Кюнз еще говорили, что за кадык их всех взяла жизнь, что на пустыри, под тюремную стену, их якобы бросила жизнь. Но все уже чувствовали, что это неточно, что виновата перед ними не сама жизнь, а неравенство, могущество богатых, беззащитность бедняков. А Борегар принадлежал к тем, кто искалечил их жизни.
— Чего он приперся в Легион? — выкрикивал Джаффар. — Он хотел уберечь честь своей матери? Он ее ненавидел и презирал, свою мамашу! Дело не в мамаше и ее чести! Граф пожертвовал собой, чтобы спасти честь всех богатых, всех знатных, всех счастливых! И правильно, их честь и надо крепко оберегать! Потому что богатые имеют право писать законы, судить нас, пихать нас в тюрьму, заставлять нас работать, угонять нас на войну! Разве можно показывать, что у них жены и матери шлюхи?.. А я… я вспарывал им животы! Я хотел видеть, что у них там делается, в животах у богатых. И я не находил ничего, кроме требухи, которая хочет, чтобы ее набивали пищей. Что же значит их честь?
Он размахивал ножом, мотал головой, визжал и кривлялся.
— Честь! Честь! — кричал он. — Когда комугнибудь из нас оторвет башку, пишут: «Погиб на поле чести». А вся честь в том, что мы выгребаем для них каштаны из огня.
Джаффар презрительно взглянул на покойника, собрал свой картофель и ушел.
В канье стало тихо.
Ренэ отправился в канцелярию сообщить о гибели сержанта.
Мы с Лум-Лумом собирали картофельную шелуху, чтобы выбросить ее. Мы делали свое дело молча. В канье было тихо: рядом лежал покойник.
— Он, однако, не так глуп, этот Джаффар! — внезапно заметил Лум-Лум. — Будь он грамотный, он вполне мог бы выйти в писаря.
ВЕСНА
Батальон входил в Мези рано утром.
Впереди шли русские песельники. Фукс запевал «Дуню», Незаметдинов пронзительно свистел в два пальца, Бейлин гикал, хор гремел, солдаты отбивали шаг и жадно смотрели по сторонам — нет ли женщин? Батальон просидел восемь месяцев в лесных пещерах Блан-Саблона. Люди обросли, завшивели, одичали и хотели видеть женщин. Женщин не было. Была пустыня.
Нас должен был встретить проводник, но его не было. Мы с Лум-Лумом отправились на поиски и нашли его среди груды развалин, над которой болталась по ветру вывеска с надписью: «Харчевня галльского петуха». Проводник был мертвецки пьян. Мы трясли его, как мешок, чтобы привести в сознание, но пользы это не принесло.
— Ну, что надо? Что надо? — бормотал он. — На кой черт вам проводник? Хороших квартир нет, а плохие вы и без меня найдете.
Он был слишком пьян. Нам стало жалко его, и мы сказали начальству, что проводника не нашли.
Командиры ругались. Батальон остановился посреди деревни. Легионеры ворчали. Несколько человек — в том числе мы с Лум-Лумом — были посланы за квартирьеров подыскивать помещения для людей.
Пьяница оказался прав. Хороших квартир в Мезине было, а плохие искать не приходилось: все дома стояли одинаково опустошенные, разрушенные и поруганные. Жители давно бежали, а проходившие здесь полки давно пожгли в походных кострах мебель, двери, оконные рамы, половицы, балки, стропила крыш. Пустые окна были черны, как глазницы истлевшего трупа. Зловеще зияли вышибленные двери.