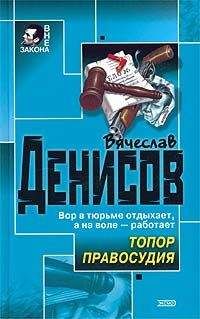Юрий Карабчиевский - Жизнь Александра Зильбера
Сперва я увидел только оркестр, он-то, казалось бы, и нес в себе самое страшное, во всяком случае, именно он это страшное вокруг себя распространял. Но нет, напрасно я в мучительной лихорадке перескакивал от одной фигуры к другой, от одного металла к другому металлу, от одних рук и губ к другим рукам и губам. Здесь, в звуковом центре процессии, были только отзвуки того самого, истинный центр находился где-то в другом месте.
Взгляд мой метнулся вперед, там несли венки. Скорбный запах хвои, смешанный с каким-то еще, тягучим и едким запахом, проплывал по узкой нашей улочке. Да, тут уже это присутствовало, и, как мало его ни было, это было оно и ничто другое. Оркестр мог быть просто оркестром, инструменты могли быть просто инструментами, но венки были только венками и ничем иным. Да, смерть… Но главное было еще не здесь.
Еще одна группа людей, и в глубине жирным пунктиром между черными фигурами — яркое, красное, длинное… Вот, подумал я и похолодел. Но это была еще только крышка. Гроб двигался следом. Он показался мне непомерно большим, красная сборчатая ткань его обивки излучала сияние, взбитая пена цветов заполняла всю внутренность, и только в самом конце на белой подушке виднелась маленькая человеческая голова. «Зачем подушка? — пронеслось у меня. — Чтобы мягко?»
Почему-то я был уверен, что это будет мужчина. Но это была женщина, и не старая, возможно, что и совсем молодая. Я успел увидеть ее только мельком, слишком много людей толпилось вокруг, и такого страху натерпелся я до этого момента, что теперь центральную эту картину воспринял если и не спокойно, то, по крайней мере, достаточно трезво, безо всяких там видений и кружений. Да, вот оно, вот самое страшное, страшнее ничего уже не может быть… Но я и на этот раз ошибся. Самое страшное было не это.
Еще одна, последняя группа двигалась следом за гробом. И там-то все и происходило, там-то и концентрировалось несчастье, там-то и жила смерть.
Двое крепких мужчин поддерживали пожилую женщину, по сути, несли ее на плечах. Каждый обхватил ее рукой свою шею, и ноги ее лишь изредка касались земли, безжизненно перескакивая носками туфель с булыжника на булыжник. Женщина билась в их объятиях, голова ее моталась далеко от тела справа налево, потом сверху вниз, затем снова справа налево. «Нет, нет, нет, нет!» — кричала она непрерывно. Никаких больше слов, только это одно. Другая женщина, тоже немолодая, быть может, подруга или сестра, протискивалась к ней время от времени, ловила голову, совала рюмку с лекарством. На момент она вроде бы успокаивалась, выпивала послушно, замолкала, затем откидывала голову назад резко, как выкидывала, и начинала снова: «Нет, нет, нет, нет!»
И сразу же за ней везли в коляске парализованного старика. Руки его лежали на подлокотниках, лицо было неподвижно, но глаза открыты, и из этих стариковских, глубоко в подлобье сидящих глаз непрерывно текли слезы. Шедший рядом высокий седой мужчина вытирал их ему белой тряпкой с неподрубленными краями — я ясно видел белые нити, застрявшие на плохо выбритых щеках.
Вокруг еще много шло плачущих, в одиночку и группами, но эти двое были несомненным центром несчастья. Те, вокруг, еще принадлежали жизни — эти не имели к ней отношения. Те, другие, еще могут утешиться — этим уже не суждено никогда. Горе, горе, живая смерть двигалась мимо меня! Теперь наконец я это почувствовал. Вся процессия, все ее отдельные части выстроились теперь в единое целое. Звук смерти — запах смерти — вид смерти — и, наконец, самая смерть, сущность ее для живущих…
Я вернулся в дом. Оркестр еще играл за окнами, «нет-нет-нет», слышался крик женщины, и песня по радио еще звучала.
— Ты чудак, — мама закрыла окно. — Что ты расстраиваешься? Мало ли на свете людей умирает. Ты здесь часто такое увидишь, привыкай, ничего страшного.
— Почему часто? — удивился я.
— Здесь же кладбище рядом, на соседней улице.
— Какое кладбище?
— Петровское.
4
Разумеется, нашлись общие знакомые. Да и друг друга мы, конечно же, где-то видели. Ну, например…
— Ты не ходишь к Риве на танцы?
Вот именно! Как же это я не хожу? Кто же это не ходит к Риве на танцы? «И жук, и жаба», как говорит мама.
Менее всего этот двор был приспособлен для танцев. Там не было ни одного квадратного метра, не вздыбленного камнями, не изрытого канавками. Когда-то здесь что-то копали, так и оставили, все утопталось, отвердело и узаконилось. Теперь казалось, что иначе и быть не могло. «Во дворе, где каждый вечер все играла радиола…»
Радиола стояла у Ривы на подоконнике, кто хотел, приносил пластинки. Под эту музыку, спотыкаясь, бродили парами. Никакого ритма не соблюдалось, не танцы, а ходьба по пересеченной местности. Но тем яснее становился второй план, то, что в нормальных, обычных танцах прячется за ритм и слаженность движений. Кому-то с кем-то хотелось ходить, кому-то с кем-то ходить не хотелось, это проявлялось сразу и четко, ошибки быть не могло. Одни пары увядали и рассыпались еще до конца пластинки, другие соединялись и расцветали на целый вечер, их уже никто не пытался разделить.
Непременная уборная в углу двора источала тонкую вонь, туда через нас посторонней торопливой походкой то и дело проходили недовольные жильцы. Недовольные — но молчаливые. Никто не скандалил и не протестовал.
Подошедшего к окну сменить пластинку обнимал за шею душный воздух тесного жилого нутра, там царил другой, многослойный запах, котлеты и жареная картошка составляли в нем лишь один из слоев. Полная Рива, чуть уже рыхловатая, но все-таки еще хоть куда, сама высовывалась порой из окна, выставляла рядом со своей радиолой кудрявую черную голову и большую грудь в шерстяной кофте, глядела долго и с пониманием, улыбалась и кивала всем головой. Иногда затем она выходила, брала кого-нибудь из мальчишек и ходила с ним несколько танцев подряд, водила по двору, тесня и обнимая…
Муж Ривы, Яшка, кривоногий и маленький, добрейшей души человек, выскакивал стремительно на быстрый танец, все движение сразу же останавливалось, и он отплясывал в центре круга, взбрыкивая и выкидывая коленца, ко всеобщему смеху и удовольствию…
Как же мне не бывать у Ривы! Но, странно, не видел. Ну нет, я не мог бы забыть. Может, дни наши не совпадали?
Я уже не думал о теме для разговора, общая тема бесконечным пространством лежала перед нами обоими. Мы были с ней людьми с одной площадки, из одного и того же куска жизни, и здесь, в этом чужом лесу, далеком от нашего общего дома, мы чувствовали себя родными друг другу людьми. Столовая, кинотеатр, автобаза, рынок, клуб завода пожарных машин… Вовка Ляхов, Марина Мяишек, Ленка Железнова, Мишка Калачов…
— А Герасим, — спросил я в общем потоке, — как тебе наш Герасим?
Что-то вдруг прошло по ее лицу. Может, он обидел ее когда-нибудь? Или ей неловко за него передо мной, за его навязчивый бред? Но я взглянул еще раз — нет, кажется, все в порядке. И только опять эта легкая горечь в улыбке, этот милый загиб рта, чуть заметный такой уголок…
«Я люблю ее, — сказал я себе. — Я люблю ее!» — именно так и сказал, такими точно словами. Никаких других я не знал и знать не хотел.
Я уезжал в Москву на следующий день, она оставалась на вторую смену. Я не стал с ней прощаться — боялся что-нибудь нарушить, испортить. Фантастическое вчера оставалось внутри меня нерастраченным, цельным и чистым. Где-то там, в глубине моей души, жил этот день счастливой и безоблачной жизнью, он был защищен ото всех случайностей моей властью и моим желанием.
В окно автобуса мне был виден ее коттедж, но ее там не было, только прочие мелкие девочки прыгали и развлекались вокруг. Наконец… О Господи, наконец! Она вышла с распущенными длинными волосами, с тазом в руках (мыла голову, подумал я, замирая от нежности), выплеснула воду, постояла еще с минуту (эмалированное коричневое днище упиралось в ее колено) и ушла в дом, не оглянувшись. Да-да, подумал я, да-да, правильно, она тоже понимает, она тоже так думает, она тоже боится испортить. Пусть трогается автобус, скорей, скорей, дальше отсюда, ближе к Москве. Там, в Москве, возродится эта радость, там продолжит замершую свою жизнь. Пройдет только месяц, это так немного, а сейчас чем дальше я от нее уезжаю, тем ближе к ней становлюсь…
И только в метро, поднимаясь по эскалатору, я вспомнил, что не знаю ее адреса. Я сразу вдруг вспотел и ослаб, чемодан чуть не выпал у меня из руки. На улицу я вышел другим человеком, худым и сутулым еврейским мальчиком, снова, как прежде, ни в чем не уверенным, опасающимся всего на свете.
Петровское кладбище тянулось на целую улицу, полностью занимало одну ее сторону, а на другой стороне было много домов, и, в каком именно, — поди угадай. Нельзя же было обойти все (хотя мысль такая, пусть на краткий миг, тут же у меня возникла). Остается ждать случая, чуда. Да вот — танцы у Ривы! Я буду ходить туда каждый вечер, два раза, допустим, ее не будет, но на третий она непременно появится. Я буду стоять один у окна, буду ждать ее и менять пластинки. Что с тобой стряслось, спросит Рива, не танцуешь, а ходишь, как на дежурство. Поспорил с кем-нибудь? Или дал зарок? Зарок, скажу я, как ты угадала? Ну-ну, это было нетрудно. Не скажу, много, но немножко я вашего брата знаю. Все вы, мужчины… И так согреет меня это слово в дурацкой испытанной фразе, такие сильные крылья прицепит мне на лопатки, так по-новому посмотрю я Риве в глаза… И она вытащит мягкую руку из-под груди и погладит меня по щеке — аккуратно, внимательно, ласково и подробно, совсем не как мать… Медленно, медленно, двадцать градусов, еще десять, еще пять, постепенно повернусь я к ней спиной — и буду уже совсем иным, изменившимся, что-то такое чужое присвоившим и несущим в себе, как свое. Что делать, раз мне это надо! Я уже буду сильным и точным и не стану крутить головой, как в тумане, не стану пялить глаза во все стороны, а взгляну прямо туда, на угол сарая, на обитый ржавым железом угол, откуда сейчас, сию минуту выйдет Тамара. Она будет в розовом… нет, в голубом платье, и так оно будет ее облегать, и такие длинные белые руки, и такие длинные белые ноги, только чуть розоватые, почти без следов загара — впрочем, в сумерках я этого не разгляжу. Она сразу увидит меня… Нет, лучше не сразу. Пусть она еще пройдет нерешительно, слегка смущаясь, внутренне выстраиваясь, еще только готовясь как-то себя вести, пусть так пройдет середину двора, спотыкаясь на выбоинах и камнях, и тогда уже вскинет глаза и увидит. И… «Ого, — скажет, — Саша, вот это случай!» — «Нет, — скажу я, — это не случай. Это я тебя ждал». — «Вот молодец! Как же ты знал, когда я приду?» — «Знал. Я все про тебя знаю…» Впрочем, нет, этой пошлости я не скажу. Просто: «Знал». — «Я так рада! — скажет она. — Я жалею что осталась на эту вторую смену. Такая была тоска („Без тебя“, — чуть не скажет она)». Я возьму ее за руку… Тут я должен перевести дыхание. Я возьму ее за руку. «Потанцуем?» — «А ты любишь танцевать?» — спросит она. «Люблю! — скажу я, вложив в это слово особый, дважды усиленный смысл. — Люблю! Ты же видишь, если б не танцы, мы могли бы с тобой никогда и не встретиться». — «Да-да! Страшно подумать!» — скажет она.