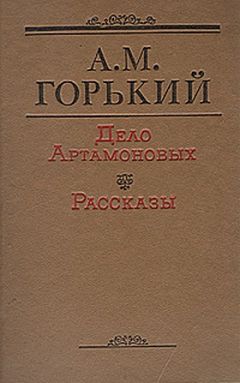Александр Бек - На другой день
Подчиняясь. Кауров тоже сунул в зубы папиросу. «Черт побери, подумал он, глядя на Кобу. Хладнокровен, как рыба». Но, будто опровергая эту мысль, Коба неожиданно продекламировал:
— «Мы живы, кипит наша алая кровь огнем неистраченных сил!» Знаешь, это чье?
— Кажется, Уитмен…
— Я должен признать тебя истинным интеллигентом.
На ходу закурили. Кауров сказал:
— Твой интеллигент знает также и то, что эти слова были приведены в одной статье «Звезды».
«Звездой», как известно, звалась легальная газета большевиков, выходившая тогда два-три раза в неделю в Петербурге. Коба не реагировал, лицо оставалось туповатым.
— Да и новая листовка нашего Цека, продолжал Кауров, — проникнута этим же мотивом.
Ему вспомнился весь текст этой прокламации, в которой среди ровного шрифта вдруг попадались буковки помельче, тиснутой на грубоватой бумаге, то есть явно не за границей, а в некой российской подпольной типографии. Листовка была озаглавлена: «За Партию». Осененный внезапной догадкой, Кауров воскликнул:
— Не ты ли ее составлял?
— Опять тебя приходится учить. Такие вопросы не задают и на них не отвечают.
— Не отвечай. Я понял.
— Ну, понял, и баста! После паузы Коба спросил: Какое же у тебя мнение об этой листовке? Режь напрямик!
— Понравилась, Солидарен всей душой.
Листовка действительно принадлежала перу Кобы, который в ту пору был включен в состав Центрального Комитета партии и стал деятельным членом Русского бюро, то есть большевистского центра в России. В листовке в выборе слов, в формулировках явственно чувствовалось влияние книги Ленина «Что делать?» — той, с которой когда-то не расставался Коба. Эта переимчивость угнездилась в нем, была как бы чертой натуры.
«…Разрозненные местные организации, — гласила листовка, не только не связанные друг с другом, но и не знающие о взаимном существовании, организации, всецело предоставленные самим себе, действующие на свой страх и риск и нередко ведущие противоположные линии в работе, — все это знакомые картины кустарничества в Партии… Влиятельный Центральный Комитет, живыми корнями связанный с местными организациями, систематически информирующий последние и связывающий их между собой, Центральный Комитет, неустанно вмешивающийся во все дела общепролетарских выступлений, Центральный Комитет, располагающий, для целей широкой политической агитации, выходящей в России нелегальной газетой, вот в какую сторону должно пойти дело обновления и сплочения Партии».
Прочитав незадолго до нечаянной встречи с Кобой это воззвание, порадовавшись, Кауров, однако, уже тогда определил: да, написано под влиянием Ленина, но не ленинским пером. «Информирующий последние», «дела… выступлений». Разумеется, Каурову не помнились в точности эти и подобные, рассеянные там и сям обороты речи, но осталось ощущение: листовка действовала бы еще сильней, если бы гибче, многообразней было слово! Возможно, выдастся удобная минута, когда он, не оскорбляя авторской чувствительности Кобы, дружески это ему выскажет. А пока должен коснуться иного.
— Вот что меня смущает. Каждый раз в листовке слово «партия» пишется с большой буквы.
— И будем так писать в пору отречений. Если большая буква служит делу, давай ее сюда!
— Но это вроде бы из Священного писания.
— Что же, партия для нас единственно священна.
— Однако в статьях Ленина…
Коба оборвал:
— Во-первых, не называй фамилий. Ты тут распустился. Говори: Старик. Во-вторых, он же отец партии. А мы люди поменьше. И в теперешней обстановке, думаю, он нас не упрекнет, что и большой буквой поднимаем партию. Коба опять выдержал паузу. — Да и вообще-то им, заграничникам, надо больше прислушиваться к русским деятелям, к практикам, работающим на родной почве. А то оторвутся от действительности.
Впервые Кауров услышал, как Коба намекнул, что и Ленина может коснуться критический огляд. Впервые же — по крайней мере, в беседах с Кауровым.
— Коба применил к себе именование «русский деятель». И весело заключил:
— Из-за транскрипции не поссоримся. Разногласие, Того, не принципиальное.
И сунул руку под локоть спутника. Это был жест доверия. Оба в эти минуты нежданной встречи как бы обменялись позывными, если употребить современный термин. И установили, что после пятилетней разлуки по-прежнему верны своей партии, разбитой, но не уничтоженной.
Уже покинув Невский, они шли по нешумной улице. На ходу Коба привычно, взглядом конспиратора окинул тыл, потом посмотрел в ту сторону, где за углом осталось желтенькое здание меблированных комнат.
— Желябов… Что говорить, героическая была натура, благородство против низости, рыцарство против нечестности, искренность против подвоха. Но каков итог?
Похожий на обитателя ночлежки, бездомный профессионал революции уснащал, как и некогда, риторическими вопросами нежаркую, не согретую эмоциями речь. Однако Кауров ощущал в ней своего рода ласку Кобы. Чуждый каким-либо дружеским признаниям, Коба ласкал верного давнего товарища не восклицаниями, не излияниями чувств, а одаривал откровенностью, делился мыслями, разговорился, что не часто с ним бывало.
— Каков итог? — повторил он. — История засвидетельствовала в бессчетный раз, что прекраснодушные оказались битыми, раздавленными. Барон испробовал другой путь, но…
— Какой барон?
— Э, не потерять бы тебе звание интеллигента. Бароном в своих письмах Бакунин называл Нечаева. Барон испробовал другой путь, но никуда не ушел от теории героя и толпы. Эта теория, друг мой, рождает и рыцарей и провокаторов.
— И провокаторов?
— Бери Азефа. Сверхчеловек. Захочет и отправит на тот свет царского брата. Захочет и пошлет на казнь своего самого близкого якобы друга, руководителя боевой организации. И упивается в тиши собственной властью, силой своей личности. Вот как она, гиблая теория героя и толпы, может обернуться.
В афористически кратких фразах Кобы чувствовалась продуманность. Он, видимо, уже изучил историю русского революционного движения. Развился, не потерял миновавших, проведенных в подполье, в тюрьмах и в ссылке годов.
Каурову пришла на память еще одна строка из листовки Центрального Комитета партии: «Бебели не падают с неба, они вырастают лишь снизу…» Может быть, впрямь этот замарашка, тоже подобно немецкому бывшему токарю выбравшийся из самых низов, теперь вырастает в Бебеля России?
Подошли к дому, где на верхотуре, под самым чердаком обитали два студента — приятели Каурова. У них, любителей выпить, спеть, сплясать, нередко устраивались пирушки. Хозяйка тоже отличалась склонностью к винишку. В первом этаже помещался полицейский участок.
— Того, куда ты меня привел?
— Ничего. Опасность, как известно, стихия войны. Над этим логовом наилучшее для тебя пристанище. Спокойно здесь переночуешь.
Миновав полицейскую обитель, поднявшись по сбитым каменным плитам лестницы, вошли к весельчакам студентам. Коба ожидал в прихожей, пока Кауров объяснялся в комнате.
— Кто это с тобой?
— Грузин. Бедняк. Мой давнишний приятель. Приехал в Петербург поискать счастья. Хочет где-нибудь устроиться. Приютите его на ночь.
— Конечно, пусть ночует.
Вернувшись в прихожую к Кобе, Кауров сказал:
— Останешься здесь. Ни о какой политике не говори. Поддерживай мою версию: бедняк, приехал заработать. Завтра можешь перейти в другое место. Вот тебе адрес: Широкая улица. — Кауров назвал номер дома и номер квартиры. — Там живет мой брат. Я ему скажу.
— Ладно. Уходи. Наставлений читать не буду. Ты тертый калач. Сам знаешь: осмотрись, чтобы улица была чиста.
Короткое рукопожатие заменило какие-либо сантименты. На этом расстались.
Несколько дней спустя Коба пришел на ночевку к брату Каурова — врачу, обитавшему с женой на Васильевском острове. Хозяева отсутствовали, гостя впустила миловидная домашняя работница. По-прежнему заросший, он смахивал на разбойника. Под изгибом выдававшейся вперед жесткой шевелюры, что зачесывалась лишь пятерней, был почти вовсе спрятан лоб. Щеголявшая в белой наколке петербургская девушка оторопела.
— Буду ночевать, — объявил он. И, усмехнувшись, предложил: — Если ты меня боишься, запри куда-нибудь и возьми себе ключи.
Она так и поступила, заперла его в маленькой комнате. Вернувшиеся хозяева, загодя предупрежденные Алешей, застали пришельца под замком. Комнатка была заволочена табачным дымом. Коба сидел и курил. Ему устроили ванну, выдали смену белья, посадили к зеркалу побриться. Невестка Алексея постригла Кобе бороду, находившуюся в анархическом состоянии. Он сразу после ужина лег спать.
Наутро вместе с ним позавтракали, выпустили его по черной лестнице, проводили взглядами через окно. Он твердым легким шагом горца пошел по Широкой улице.