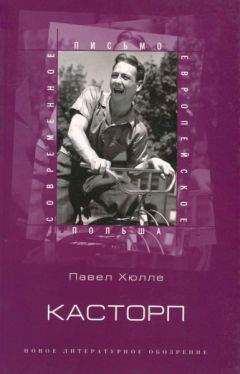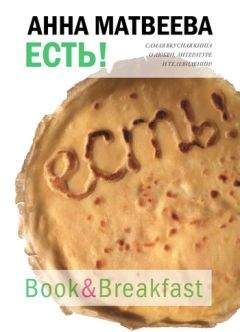Зоя Журавлева - Роман с героем конгруэнтно роман с собой
Еще я с наслаждением поговорила бы по интересующему меня вопросу с Паулем Эренфестом, он для меня — образец Учителя, недаром юный Крониг, больно ударившись об сарказм того же Паули, не рискнул выступить с идеей спина, а юные же Уленбек с Гаудсмитом, поддержанные и даже подталкиваемые педагогическим — добрым — даром Эренфеста, бесстрашно выступили, чем и обессмертили свое имя (я даже думала, что им дали Нобелевскую премию, не поленилась проверить — нет, не дали, да это и несущественно, „открытие новой истины само является величайшим счастьем; признание почти ничего не может добавить к этому“, как справедливо заметил Франц Нейман, и не он один). Эренфест, конечно, задумывался над тем, о чем я хотела бы с ним потолковать, и даже возможно знал ответ. Гордость и гордыня Учителя — быть превзойденным своими учениками (я не об этом хочу, нет, нет, это ясно) и уж, во всяком случае, не бояться их буйного движения вперед, а всегда — ему радоваться, не мне Вам это объяснять.
Я, наоборот, восхищаюсь, что высший балл Вы при любых обстоятельствах (хоть на открытом, хоть на закрытом уроке) и любому ученику (будь у него даже сплошные „колы“ по всем предметам, чего теперь не бывает) ставите за толково сформулированный вопрос, даже — за попытку вопроса (только вопрос стимулирует мысль), за возражение, за опровержение Вашей мысли, за умение подметить нечеткость или вдруг недостаточность Вашего доказательства, уловить слабое место в ходе Ваших рассуждений. Вы постоянно тренируете мыслительный аппарат своих подопечных. Мозги же без тренировки — атрофируются, в любом, причем, возрасте, быстрее, чем мышцы, но про мышцы помнят даже футболисты, а о мозгах порой забывают даже ученые мужи.
В тренаже своем Вы к ученикам беспощадны, добрым Учителем Вас ни в жизнь не назовешь. Но если знания, сам процесс познания, — это уже само по себе Добро (это уже имеет отношение к тому, о чем я бы хотела поговорить с Паули и Эренфестом), то Вы несомненно добряк из добряков. Мне только любопытно, как Вы градируете свои отметки, каковых у Вас на каждого ученика, по-моему, сотни, я глядела Ваши листочки с повседневными оценками по классам, китайская грамота — блекнет. Видимо, в Вас заложено счетно-нюансирующее устройство недоступно высшего класса — любопытно, квантованный ли это у Вас процесс или возможности Вашей нюансировки вокруг одной-единственной (5, 3, любой) отметки в Вас безграничны, бесконечны и не подчинены известным физическим законам?
Я пока что видала „пять“ с семью минусами, не сомневаюсь, что каждый минус для Вас исполнен сакрального смысла. Как ни странно, шесть из них Машка мне даже объяснила, она была этой своей пятеркой горда чрезвычайно. „Минусы“ ее, как я поняла, только углубляли оценку, ибо свидетельствовали — для Машки — о значительности Ваших тайных и сокровенных связей, которые открыты лишь Вам, Машке и Математике. За последнюю самостоятельную работу она принесла, наоборот, „двойку“ с четырьмя плюсами. И вовсе была переполнена гордыней. Повертев перед моим носом этим своим почтенным трудом, сказала: „Четыре плюса, заметь! Это даром не дается, только — кровью!“ Прибила кнопкой труд к стенке, чтобы, значит, не сразу расстаться с ним — и ушла, превеселая и отчаянно виляя крупом от высокого тонуса души, к себе в комнату. Как я потом дополнительно выяснила, особенно Машку порадовал Ваш плюс-3 (третий при „двойке“), он был, как она любезно расшифровала ради моего кретинизма, за „изящное, но неправильное — решение шестого примера, неверно — ну, просто там отсвечивало, понимаешь? — списанного с доски“.
Но не о Машке же я хотела сейчас поговорить с Вольфгангом Паули, Бернгардом Риманом, Полем Дираком, Николаем Лобачевским, Норбертом Винером, Давидом Гильбертом, Нильсом Бором, Анри Пуанкаре, Германом Минковским, Вильгельмом Конрадом Рентгеном, Энрико Ферми, Германом Вейлем, Абдусом Саламом (ныне здравствующим), Василием Васильевичем Налимовым (к счастью — здравствующим) и многими другими заинтересованными лицами. Их всех, увы, под рукою нету, хоть они всегда рядом, а Вы — есть, хоть Вас — во плоти — тоже рядом нет почему-то. Рискну все же поговорить с Вами.
В хрестоматийном примере — насчет того, что в стакане чая, который мы собираемся сейчас выпить, содержится около тысячи молекул воды из чаши с ядом, что поднесли когда-то Сократу, если даже считать содержимое этой чаши по настоящий момент рассеянным в атмосфере и по всем океанам — есть для меня тоже момент сакральный, как для Вас в оценках. Я страстно желаю извлечь из этого факта информацию вот какого рода. Но если этот стакан (сейчас) и ту чашу (тогда) объединяет такое количество молекулярных связей, пусть — не связей, просто молекул, но тех же ведь самых, неповторимых, неповторенных, то сколько же во мне (целиком) — от Сократа (как системы: человек, как структуры, хоть и ветвящейся, с неизбывным числом всяких связей)? В Вас — от Сократа? В Машке — от Сократа? И не только же — от него.
Были ли мы в тот далекий момент более — теми, кто подносил эту чашу, или мы — более и безусловно — выпили ее вместе с Сократом? И как это на нас, теперешних, отразилось и отразилось ли вообще? Вот что меня терзает. Мне мучительно хочется обнаружить в науке, в развитии интеллекта, исходя из совершенства его как явления высокого духа, изначально заложенный в нем самом нравственный аспект. (Здесь есть, конечно, некое логическое жульничество, лихой перескок от молекул к Сократу, а от него — к развитию интеллекта, но, мне сдается, что именно этот скачок и делает мою мысль наглядной и убедительной в своей тревожности.)
Я все ищу в самом движении интеллекта — во времени, в индивидууме ли — безусловный и непреложный нравственный критерий. Мне хочется, чтоб он был. Мне даже все время кажется, что он есть. Но однако он не дается пока — ни мне, ни кому другому. И все-таки высокий интеллектуальный уровень, не прикладного, а чистого — познающего и осознающего себя — разума должен его иметь. Косвенным свидетельством можно считать хотя бы то, что — как постоянно, настойчиво повторяют все выдающиеся ученые, Вы сами это отлично знаете и сами, не ленясь повторяться, все долбите на каждом уроке, — именно красивое решение, как правило, оказывается истинным, красота — значит — каким-то непонятным (непонятым пока?) образом влияет на совершенство смысла или сам смысл, независимо от себя, оборачивается скорее изяществом, чем безобразием.
Следовательно: если поступок красив (то есть: благороден), то он, получается, более свойственен самой природе интеллекта. Если человек — высок, это для интеллекта — естественно. Для меня сейчас, к примеру, — Нильс Бор, я человек ограниченный и верный. Но есть же Швейцер, Амундсен, Николай Вавилов и другие. Но более чем достаточно — увы! — и противоположных. Если же нравственный критерий все-таки в природе самого интеллекта не заложен, то искусство, впрямую воздействующее на самое в человеке уязвимое, на эмоции, — выходит, для человека выше, чем любая наука, во всяком случае — человечнее. Ибо важно, само собой, решить задачку на движение или на работу, кто спорит, уметь сладить синхрофазотрон (слово-то какое скульптурное, чувствуете?), проткнуть буровую на шельфе и, может, воздвигнуть атомную электростанцию на приливах-отливах (это еще пускай биологи скажут, хорошо ли), но как бы нам не порушить ребенка (вечная — достоевская — боль), не толкнуть старика, не затюкать доброго, не затереть даровитого, не лишиться последнего леса да чистой реки, курицу-птицу не извести, как реликт, и чтоб — не плакали женщины, и мужчины в расцвете лет не валились с инфарктом.
К глупости, конечно, пришла: выше, ниже, что за убогие счеты с вечностью и с душой. Как бы это, дорогой сэр, нам с Вами — с Вашей математикой и моей бы, все же, литературой — как бы так справно и гармонично совместить, и чтобы был бы от этого и другому кому хоть какой-никакой прок? Да знаю я, знаю, что „последние твои дела выше первых“, знаю, что мы — стараемся и сколь мало довольны мы плодами стараний своих, все я знаю, сэр…»
Мы спросили у крота — что принять от живота? Долго думал старый крот. А потом сказал: «Компот».
Глупость всегда освежает.
Да, был еще момент в моей жизни, когда Валя Вайнкопф меня, может, спас, во всяком случае — удержал от шага, который неизвестно к чему бы привел. После гибели Умида я провела (третье октября, пятый курс) зиму в безжизненном отупении, официально это именовалось «академический отпуск», с университетом для меня окончательно не было еще решено, брошу или вернусь. К весне я помаленьку отошла, спала по всему телу крапивница, держалась теперь только на ногах, это — не видно, музыка от соседей через стенку уже не так шарахала меня по голове, от громкого и веселого голоса я уже не бледнела, если двое стояли в сквере обнявшись, соображала, что это просто парень и просто девушка, а не черные скелеты сцепились костями, как мне первые месяцы виделось, и, когда рядом со мной смеялись на улице, я уже понимала, что это не оскорбительное для Умида, для того, что его — нет, нигде больше нет, кощунство, за которое сразу ненавидишь, а просто — чья-то чужая радость.