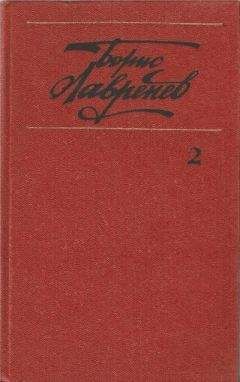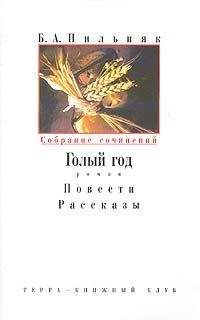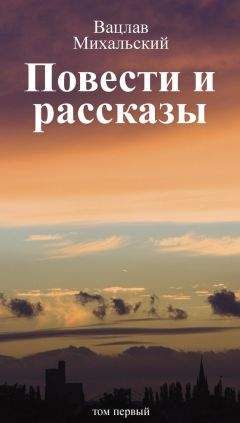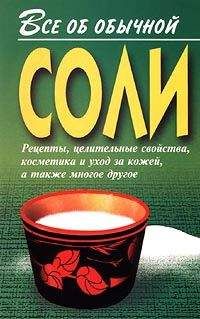Борис Лавренёв - Собрание сочинений. т.1. Повести и рассказы
Любит высокие звания и с разночинцами не якшается.
Для простых же генералов, штаб- и обер-офицеров дана проститутка рангом пониже — тактика.
И на плечах двух блудниц покоит прыщастое, в язвах, седалище вислозадая баба с проваленным носом на пегой лягушечьей морде:
ВОЙНА
Генерал уставился в карту, потер пухлые руки и позвонил:
— Тяжелой батарее левого сектора обстрелять ураганным огнем участок номер семнадцать, квадрат Б тридцать четыре.
— Слушаюсь! — брякнул квадратный майор, такой же квадратный, как квадрат, назначенный в жертву.
8Поручик Григорьев понуро сидел на окопной ступеньке.
На проволоке забился и заверещал высоким заячьим визгом раненый немец.
Визг плыл на одной ноте, пронзительный, вязкий, и казалось, что если продолжится он еще секунду-другую — разверзнется земля, и весь мир провалится к черту, в черную дырку.
Худой гренадер с искаженным лицом поднялся на бруствер, вскинул винтовку, осторожно повел и брызнул в ночь огоньком.
Немец затих.
Гренадер соскочил, развел виновато руками и тихо, с недоумением сказал:
— Не можно ж!.. Скулить!.. Душу вымотав!
А там, где за лесом жерлами в безглазую темь стояли бронзовыми жабами четыре мортиры, телефонная трубка сифилитическим гнусом проблеяла в уши лейтенанту с лошадиной челюстью генеральский приказ.
И пока поручик Григорьев, жалобно морщась, смотрел, как уносили пулеметчика, простреленной головой легшего на тело «максима», лейтенант, сверясь по карте с номером цели, прокаркал команду…
На четверть секунды стало светло, как днем, и над лесом, пригнув к земле мохнатые шапки деревьев, испуганно дрогнувших, пронеслись по смятому воздуху, захлебнувшись ревом, четыре
паровоза…
нет — поезда, груженные смертью.
С железным грохочущим гулом понеслись к русским окопам.
Заслышав неистовый гуд, гренадеры прилипли испуганно к стенкам:
— Слышь, робя?
— «Берта» едет!
— Будя потеха!
Рев вырастал, становился нестерпимым, и, закончась дьявольским визгом, грянул четырежды.
Выплеск вулкана вырвал из сумрака позеленелые лица. Гейзеры рваной земли метнулись вверх, и мрачными звонами запели осколки.
Солдаты крестились, и кто-то, белее мела, держа рукой щелкавшую орешками зубов челюсть, сказал растерянно:
— Таким бы Гришку с царицей!..
Еще раз ревнули мортиры, и придавил нервы оглушительный гул.
И поручик Григорьев почувствовал, как с яростной силой вдувают ему в открытый испуганно рот вздувшийся воздух, ставший упругим и твердым, как резиновый мяч. И, поднятый неведомой силой, полетел без оглядки в пространство.
И в ту же минуту денщик, колченогий Нифонт, «Козье вымя», ощутил, как железный крюк зацепил его под ребро.
Больше ничего ощутить не успел и перешел в небытие без правой ноги и бока.
Поручик Григорьев, плашмя брошенный оземь, перевернулся четырежды, попытался привстать, оглушенный и засыпанный, и на месте своего блиндажа увидел глубочайшую, дышащую паром и дымом воронку, откуда, как ребра бронтозавра, открытые горным обвалом, торчали расщепленные полуаршинные бревна.
И еще в двух местах, где вилась раньше четкая лента окопов, зияли такие же сырые и жаркие дыры.
Поручик Григорьев простонал.
Сбоку подбежал гренадер третьего взвода, из сектантов, Огульный, помог подняться и отряс полушубок.
Из-под груды земли, вытянув руку, с мокрой культи которой сочились на снег темные капли, торчало тело, заканчиваясь раскромсанной головой, и по рыжим спекшимся космам поручик с трудом узнал субалтерна прапора Веткина.
Субалтерн Лобачевский, перепрыгнув кучу обломков, крикнул:
— Тридцать два убитых!
Поручик Григорьев с трудом прохромал к яме блиндажа. Сел мешком прямо на снег и закрыл безвольно глаза.
Огненные вспышки, пламенеющие нити мелькали в глазах, свивалась, дрожали и метались в черной глянцевой пустоте. Понемногу они стали свиваться в золотые жгуты, и из золотых жгутов выплыли четкие, по черному глянцу, надписи:
«Гала-Петер»… «Гала-Петер»… «Гала-Петер»…
Поручик охнул и открыл глаза. Но буквы не исчезали. Небо было глянцево-черным, как бумажка от шоколада, и по нему толпились, обгоняя друг друга, золотые надписи…
Поручик при поднялся на руках и стал испуганно пятиться.
Наткнулся на обломок бревна, опрокинулся на спину, и тут уже сдали поручичьи нервы, и, колотясь оземь, дрожа, заплакал мальчик Коля Григорьев не о Веткине, не о тех тридцати двух, — нет, слишком прост для поручика был смертный человеческий ужас и не трогал души, а рыдал горько и жадно о трех с половиною фунтах шоколада, погибших в блиндаже, уничтоженного «Бертой».
9Ляля устало и блаженно сосала тающую во рту круглую плитку «Миньон-Экстра», лежа под шныркинским шелковым одеялом.
На подушке, рядом, прижавшись к горячему Лялиному плечу, лежала голова Жоржа Арнольдовича.
Ляля погладила синью отливавшие волосы, вздохнула и шепнула печально:
— Бедный Коля! Наверно, у него нет сейчас «Миньона»!
— Спокойствие, крошка, — ответил с весом Жорж Арнольдович, — завтра шлю ему ящик «Миньона». Как бы виновен… но «любовь свободна», — поется в опере испанца Бизе и… вам, русским, стать Джеками Лондонами!
И притянул к себе как воск послушную Лялю.
10И еще:
Мычал теленок в углу, и в заклеенные бумагой шибки окна, сутулясь, влезала глухая бабища-ночь.
На полу храпела, выставив голые, тверже дерева, пятки, Агриппина Огурцова.
А на плечи перелетал звонкий шепот:
— Мишка, а Мишка!
— Чево?
— Дай щиколаду! Ты не весь сгрыз, упрятал!
— Ишь охоча! А что ж свой сожрала?
— Укусно!
— И соси пальца!
— Дай!
— Не дам… сказал! А будешь скулить — в морду! Помолчали, и девчонка вздохнула жалобно:
— Счастливый тятько-то!.. Почитай кажин день по фунту щиколаду жрет!
И опять после молчания отозвался мальчиший, грубоватый шепот:
— Знамо, дура! А на што ж и война!
Март 1916 — сентябрь 1923 г.
МАРИНА
Люблю небо, траву, лошадей, а всего больше — море.
Люблю плоское, угрюмое Балтийское побережье и мутно-зеленую волну, непрестанно шлифующую серебряный песок пляжей у берегов Скандинавии и северной Евразии.
Люблю голубой хрусталь Черного моря в штилевую погоду и пятисаженные воланы пены, взметаемые штормом на голые обрывы Аю-Дага.
Аквамариновую бледность Мраморного в июльский зной, когда вода бесшумно расступается перед узорным носом каика, роняя бриллиантовые брызги, а в прозрачной глубине по чуть зеленоватому меловому дну свиваются солнечные жилки.
Люблю тяжелую, густо-лиловую влагу Средиземья.
И несказанно — густую ляпис-лазурь океана, распластанные в небе острые крылья альбатросов, прыжки летучек и даже жадную слепую харю акулы.
Сердце у меня трепыхается неудержимо и радостно, когда в гавани вижу легкие кресты рей на высоких мачтах, сети вантин, толстую трубу с красной полосой и белой звездой на ней, крутую корму и сладко манящие буквы: «Buenos Aires», «Hawaii» или «Melbourne».
А матросская шапочка с вьющимися за спиной ленточками доводит меня почти до обморока.
С детства томила меня одна мучительно неотвязная мечта: стать моряком и водить сказочно великолепные и грозные боевые корабли, а уж в худшем случае получить в командование океанский пароход. Но океанских пароходов у меня не было и не будет, если только какому-нибудь сошедшему с ума пароходному королю не вздумается усыновить меня.
Боюсь только, что вышел я уже из возраста, пригодного для усыновляемых.
2В военный же флот я не попал благодаря непристойной моей близорукости.
Когда исполнилось мне девять лет и поднялся в семье вопрос о моем будущем, куда меня направить, мама хотела в инженеры, папа в присяжные поверенные, а я с неожиданной силой взвыл мощным альтом:
— Хочу в морской корпус!
— Какой ужас! — вскрикнула мама. — Ты хочешь утонуть в Цусимском проливе и чтоб тебя рыбы съели?
— Фи! — дополнил папа. — Солдафон!.. Пьяница! В такое время, когда Россия подымает голову.
Папа был демократом и в то время (приближался 1905 год) подымал голову.
Но мне не было дела до папиной головы.
Вспомнил я самые страшные слова, которые слышал во дворе от сапожникова ученика Моньки, набрал воздуха в легкие и заорал крепко и пронзительно:
— Стервы!.. Пропойцы!.. Если не дадите меня в корпус, я зарежу себе горло, и, цапнув со стола вилку, ткнул в подбородок. Показалась кровь. Немного.