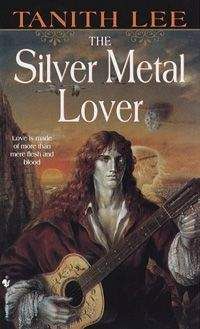Чингиз Айтматов - Плаха
Да, законы человеческих отношений не поддаются математическим исчислениям, и в этом смысле Земля вращается, как карусель кровавых драм… Так неужто карусели этой дано кружить до самого скончания света, пока вращается Земля вокруг Светила?
Огонь был метким, и лишь один вдруг судорожно приподнялся на руках, но Сандро подскочил к нему и уложил выстрелом в затылок… Кони шарахнулись в испуге и снова замерли на привязях…
Костер еще горел, река шумела, лес и горы – все на место, и луна на своем месте в невозмутимой высоте, только оборвалась песня, так долго звучавшая в тот вечер…
Лицо Сандро в ночи было бело как мел, он задыхался, схватил бурдюк с оставшимся на дне вином и, обливаясь, захлебываясь, стал пить, чтобы залить огонь внутри… Потом отдышался, спокойно обошел убитых, что в разных позах лежали вокруг костра. Затем снял оружие убитых, привесил к лукам их седел, сбросил уздечки и недоуздки с конских голов и отпустил коней на волю. Отпустил всех семерых коней, в том числе и своего гнедого… И смотрел, как они, почуявши свободу, гуськом пошли в низовья, в предгорное селение к людям… Ведь лошади всегда идут туда, где живут люди… Но вот стих и цокот подков, и скрылись в зыбкой лунной придымленности идущие цепочкой силуэты лошадей внизу…
Все было сделано. Сандро еще раз молча обошел шестерых, сраженных наповал, и, отойдя чуть в сторону, приставил дуло маузера к виску. Еще раз выстрел прозвучал в горах коротким эхом. Теперь он был седьмым, отпевшим свои песни…
Так завершилась та грузинская баллада.
Об этом я вдруг вспомнил, слушая в музее болгарских певцов, исполнявших староболгарские церковные песнопения. Эти песнопения были созданы людьми, возвышенно и даже исступленно взывающими из тьмы веков к Всевышнему, сотворенному ими же, к нереальности, превращенной ими же в духовную реальность, людьми, убежденными, что они так одиноки в этом мире, что лишь в песнях и молитвах они найдут Его.
Я вспомнил и пережил всю ту историю в какие-то секунды. По сравнению со скоростью мышления скорость света – ничто; мысль, что, уходя в прошлое, может двигаться в обратном направлении во времени и в пространстве, быстрее всего…
Теперь я поверил, что так оно и могло быть в те годы в самом деле. В заключение рассказа «Шестеро и седьмой» автор писал, что Сандро, то есть седьмой, был посмертно награжден каким-то орденом.
Но когда б трагедии гражданских войн не оборачивались трагедиями нации, когда б сопротивление одних истории нововходящей и нетерпение других в борьбе за ускорение этой же истории не переменяли жизнь на корню, откуда бы эти страшные борозды на пашне революции и разве имела бы грузинская баллада такой исход?.. Цена ценою познается… Ведь тот, седьмой, мог бы торжествовать, остаться жить, но он не остался – по причинам труднообъяснимым. Всякий может истолковать их по-своему. А мне в тот час, когда я плыл в ладье болгарских песнопений под белым парусом возвышенного духа, что вечно бороздит вдали открытый океан бытия, подумалось, что причиной такого завершения грузинской были послужили песни, в которых заключалась вера всех семерых…
Когда открытие делаешь для себя, все в тебе согласно и наступает просветление души. Глядя, как праведно, преданно и вдохновенно сияли глаза софийских певчих, поющих заветные гимны, как лица их от напряжения покрылись обильным потом, завидовал, что я не среди них, что я не тот, не мой двойник.
И на той волне нахлынувшего просветления подумалось вдруг: откуда все это в человеке – музыка, песни, молитвы, какая необходимость была и есть в них? Возможно, от подсознательного ощущения трагичности своего пребывания в круговороте жизни, когда все приходит и все уходит, вновь приходит и вновь уходит, и человек надеется таким способом выразить, обозначить, увековечить себя. Ведь когда все кончится, когда наступит тот грядущий через миллиарды лет конец света и планета наша умрет, померкнет, какое-то мировое сознание, пришедшее из других галактик, должно непременно услышать среди великого безмолвия и пустоты нашу музыку и пение. Вот ведь что неистребимо вложено в нас от сотворения – жить после жизни! Как важно осознавать человеку, как необходимо быть уверенным ему в том, что такое продление себя возможно в принципе. Наверное, люди додумаются оставить после себя какое-то вечное автоматическое устройство, некий вокально-музыкальный вечный двигатель – это будет антология всего лучшего в культуре человечества за все времена, и верилось мне, когда я наслаждался пением певчих, что те, кто услышит эти слова и музыку, смогут понять, почувствовать, какими противоречивыми существами, какими гениями и мучениками были люди на земле, единственные обладатели разума.
Жизнь, смерть, любовь, сострадание и вдохновение – все будет сказано в музыке, ибо в ней, в музыке, мы смогли достичь наивысшей свободы, за которую боролись на протяжении всей истории начиная с первых проблесков сознания в человеке, но достичь которой нам удалось лишь в ней. И лишь музыка, преодолевая догмы всех времен, всегда устремлена в грядущее… И потому ей дано сказать то, чего мы не могли сказать…
Посматривая на часы, я не без ужаса ожидал, что кончится концерт в любимом мною Пушкинском музее и мне предстоит отправиться на Казанский вокзал, совсем в иной мир, и погрузиться в совсем иную жизнь, ту, что колобродит испокон веков в омутах суеты и коловращений, где божественные песни не звучат, да и ничего не значат… Но именно поэтому я должен быть там…
V
Минуло полдня, поезд уже шел по приволжским краям, и в купированных вагонах успел установиться свой, насколько это возможно, стабильный дорожный быт, рассчитанный на много дней пути, а в общем вагоне, в котором ехал Авдий Каллистратов, шла, можно сказать, коммунальная жизнь. Народ ехал разный, и у каждого была своя причина следовать в поезде. И все это было в порядке вещей – людям надо, люди едут. И среди них – гонцы за анашой, попутчики Авдия Каллистратова. Он догадывался, что гонцов в этом поезде ехало с добрый десяток, но сам он пока знал только двоих – тех, к которым приставил его на вокзале разбитной носильщик Утюг. То были мурманские молодчики – один постарше, Петруха, лет двадцати, и второй совсем еще мальчик, шестнадцати лет, звали его Леней, но и он, Леня, отправлялся на промысел уже во второй раз. Оттого считал себя бывалым волком и даже кичился тем. Держались мурманчане поначалу сдержанно, хотя и знали, что Авдий, Авдяй, как стали они его звать на северный лад, свой человек, что начинает он в гонцах по рекомендации надежных людей. Разговаривать намеками о делах пришлось в основном в тамбуре, на перекурах. Народ теперь не терпел уже курящих в вагоне – при таком скоплении и при без того спертом воздухе. Вот и выходили в тамбур поболтать да покурить. Первым обратил внимание, что курит Авдий не так, как следовало бы людям их пошиба, Петруха:
– А ты, Авдяй, сроду не курил, что ли? Как дамочка какая, боишься, что ли, затянуться? Пришлось соврать:
– Курил когда-то, да бросил…
– Оно и видно, а я вот сызмальства привык. А наш Ленька – тот куряка так куряка, как дед какой смолит, да и выпить при случае не пропустит. Сейчас нам, правда, нельзя, зато потом врежем.
– Так ведь мал он еще!
– Кто мал, Ленька? Мал, да удал. Ты-то вот вроде впервой движешься по крупному делу, это тебе не шабашка какая. А он уже все ходы-выходы знает, будь здоров!
– И травку тоже потребляет или в гонцах только ходит? – поинтересовался Авдий.
– Ленька-то? А то как же, курит. Теперь все курят. Так ведь курить надо с умом, – стал рассуждать Петруха. – Иные есть – наглотаются до умопомрачения, такие в дело не годятся. Это тухляки. Завалят всю малину. Травка – она какая, она – радость приносит, на душе рай от нее.
– А отчего радость?
– А оттого, вон, скажем, маленький ручеек протекает, его перешагнуть да переплюнуть, а для тебя он – река, океан, благодать. Вот тебе и радость. А ведь радость – дело какое, откуда взять ее – радость? Ну, к примеру, хлеб купишь, одежду купишь, обувку тоже купишь, водку все пьют тоже за деньги. А от травки, хоть и деньги платятся немалые, – приятность особая: ты будто во сне, и все вокруг ну прямо как в кино. Только разница в том, что кино глазеют сотни да тысячи, а тут ты сам по себе только, и никому нет дела, а кто сунется, тому можно и в рыло дать, не твое, мол, дело, как хочу, так и живу, не лезь в чужой огород. Вот ведь оно какой оборот! – И, помолчав, намекнул хамовато, щуря острые глаза: – А то, Авдяй, попробуешь, может, травки, покайфуешь для приятности, могу уделить из личных запасцев…
– Да я уж своего попробую, – отказался Авдий, – вот когда свой пай добуду, тогда другое дело.
– Тоже верно, – согласился Петруха, – свое есть свое. – Помолчал и решил высказаться дальше: – В нашем деле, Авдяй, главное – осторожность, потому как все вокруг наши враги: каждая бабка, каждый ветеран с медалехой, каждый пенсионер, а о других и говорить нечего. Всем так и хочется, чтобы нас засудили да рассовали подальше по каторгам, чтобы с глаз долой. А потому правило у нас такое – веди себя вроде ты никто, неприметная серая птичка, пока свой куш не сорвал. А потом знай наших! Когда деньги в кармане, пошли они все к такой-то матери… А если что, Авдясь, умри-подохни, но своих нe выдавать. Это закон. А не выдержишь, так и так – хана, пришить могут как собаку. Хоть и в зоне, а все равно достанут. Это тебе не шуточки-игрушечки…