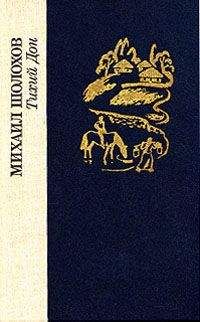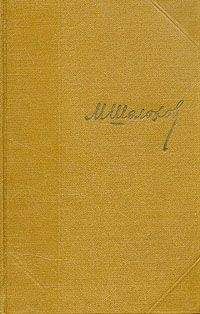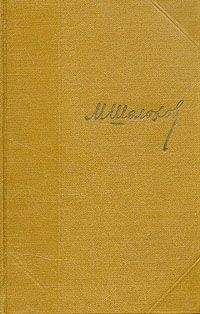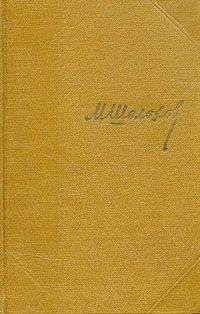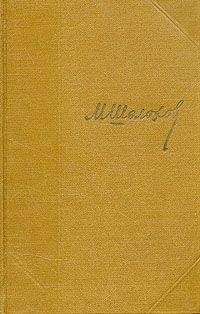Михаил Шолохов - Тихий Дон. Том 2
Григорий помрачнел, коротко ответил:
– Не нужен стал.
– Через чего это?
– Не знаю. Должно быть, за прошлое.
– Так ты же эту фильтру-комиссию, какая при Особом отделе офицеров цедила, проскочил, какое может быть прошлое?
– Мало ли что.
– А Михаил где?
– На базу. Скотину убирает.
Прохор придвинулся ближе, снизил голос:
– Платона Рябчикова с месяц назад расстреляли.
– Что ты говоришь?
– Истинный бог!
В сенях скрипнула дверь.
– Потом потолкуем, – шепнул Прохор и – громче:
– Так что же, товарищ командир, выпьем при такой великой радости? Пойти покликать Михаила?
– Иди зови.
Дуняшка собрала на стол. Она не знала, как угодить брату: положила ему на колени чистый рушник, придвинула тарелку с соленым арбузом, раз пять вытерла стакан… Григорий с улыбкой отметил про себя, что Дуняшка зовет его на «вы».
За столом Михаил первое время упорно молчал, внимательно вслушивался в слова Григория. Пил он мало и неохотно. Зато Прохор опрокидывал по полному стакану и только багровел да чаще разглаживал кулаком белесые усы.
Накормив и уложив спать детей, Дуняшка поставила на стол большую тарелку с вареной бараниной, шепнула Григорию:
– Братушка, я сбегаю за Аксиньей, вы супротив ничего не будете иметь?
Григорий молча кивнул головой. Ему казалось, никто не замечает, что весь вечер он находится в напряженном ожидании, но Дуняшка видела, как он настораживается при каждом стуке, прислушивается и косится на дверь.
Положительно ничто не могло ускользнуть от не в меру проницательных глаз этой Дуняшки…
– А Терещенко-кубанец все взводом командует? – спрашивал Прохор, не выпуская из рук стакана, словно опасаясь, что кто-нибудь отнимет его.
– Убит под Львовом.
– Ну, царство ему небесное. Хороший был конармеец! – Прохор торопливо крестился, потягивал из стакана, не замечая язвительной улыбки Кошевого.
– А этот, у какого чудная фамилия? Какой правофланговым был, фу, будь он проклят, как его, кажись – Май-Борода? Хохол, такой тУшистый и веселый, что под Бродами польского офицера напополам разрубил, – он-то живой-здоровый?
– Как жеребец! В пулеметный эскадрон его забрали.
– Коня своего кому же сдал?
– У меня уже другой был.
– А белолобого куда дел?
– Убили осколком.
– В бою?
– В местечке стояли. Обстрел шел. У коновязи и убили.
– Ах, жалко! До чего добрый конь был! – Прохор вздыхал и снова прикладывался к стакану.
В сенях звякнула щеколда. Григорий вздрогнул, Аксинья переступила порог, невнятно сказала: «Здравствуйте!» – и стала снимать платок, задыхаясь и не сводя с Григория широко раскрытых сияющих глаз. Она прошла к столу, села рядом с Дуняшкой. На бровях и ресницах ее, на бледном лице таяли крохотные снежинки. Зажмурившись, она вытерла лицо ладонью, глубоко вздохнула и только тогда, пересилив себя, взглянула на Григория глубокими, потемневшими от волнения глазами.
– Односумка! Ксюша! Вместе отступали, вместе вшей кормили… Хотя мы тебя и бросили на Кубани, но что же нам было делать? – Прохор протягивал стакан, плеская на стол самогонку. – Выпей за Григория Пантелевича!
Проздравь его с прибытием… Говорил я тебе, что возвернется в целости, и вот он, бери его за рупь двадцать! Сидит как обдутенький!
– Он уже набрался, соседка, ты его не слухай. – Григорий, смеясь, указал глазами на Прохора.
Аксинья поклонилась Григорию и Дуняшке и только слегка приподняла от стола стакан. Она боялась, что все увидят, как дрожит ее рука.
– С приездом вас, Григорий Пантелевич, а тебя, Дуняша, с радостью.
– А тебя с чем? С горем? – Прохор захохотал, толкнул Михаила в бок.
Аксинья густо покраснела, даже маленькие мочки ушей ее стали прозрачно-розовыми, но, твердо и зло глянув на Прохора, она ответила:
– И меня – с радостью… С великой!
Такой прямотой Прохор был обезоружен и умилен. Он попросил:
– Тяни ее, ради бога, всю до капельки. Умеешь прямо сказать – умей и пить прямо! Мне это вострый нож в сердце, кто оставляет.
В гостях Аксинья побыла недолго, ровно столько, сколько, по ее мнению, позволяло приличие. За все это время она лишь несколько раз, и то мельком, взглянула на своего возлюбленного. Она принуждала себя смотреть на остальных и избегала глаз Григория, потому что не могла притворяться равнодушной и не хотела выдавать своих чувств посторонним. Только один взгляд от порога, прямой, исполненный любви и преданности, поймал Григорий, и этим, по сути, все было сказано. Он вышел проводить Аксинью.
Захмелевший Прохор крикнул вслед им:
– А ты недолго! Все попьем!
В сенях Григорий молча поцеловал Аксинью в лоб и губы, спросил:
– Ну как, Ксюша?
– Ох, всего не расскажешь… Прийдешь завтра?
– Прийду.
Она спешила домой, шла быстро, словно там ждало ее неотложное дело, только около крыльца своего куреня замедлила шаг, осторожно поднялась по скрипучим ступенькам. Ей хотелось поскорее остаться наедине со своими мыслями, со счастьем, которое пришло так неожиданно.
Она сбросила кофту и платок, не зажигая огня, прошла в горницу. Через не прикрытое ставнями окно в комнату вторгался густой, лиловый свет ночи.
За камелем печи звонко трещал сверчок. По привычке Аксинья заглянула в зеркало, и хоть в темноте и не видела своего отражения, все же поправила волосы, разгладила на груди сборки муслиновой кофточки, потом прошла к окну и устало опустилась на лавку.
Много раз в жижи не оправдывались, не сбывались ее надежды и чаяния, и, быть может, поэтому на смену недавней радости пришла всегдашняя тревога.
Как-то сложится теперь ее жизнь? Что ждет ее в будущем? И не слишком ли поздно улыбается ей горькое бабье счастье?
Опустошенная пережитым за вечер волнением, она долго сидела, прижавшись к холодному, заиндевевшему стеклу, устремив спокойный и немножко грустный взгляд в темноту, лишь слегка озаряемую снегом.
* * *
Григорий присел к столу, налил себе из кувшина полный стакан, выпил залпом.
– Хороша? – полюбопытствовал Прохор.
– Не разберу. Давно не пил.
– Как николаевская, истинный бог! – убежденно сказал Прохор и, качнувшись, обнял Михаила. – Ты в этих делах, Миша, разбираешься хуже, чем телок в помоях, а вот я знаю в напитках толк! И каких только настоек и вин мне не припадало пить! Есть такое вино, что не успеешь пробку вынуть, а из бутылки пена идет, как из бешеной собаки, видит бог – не брешу! В Польше, когда прорвали фронт и пошли с Семеном Михайловичем белых-поляков кастрычить, взяли мы с налету одну помещицкую усадьбу. Дом в ней стоит об двух с лишним этажах, на базу скотины набито рог к рогу, птицы всякой по двору ходит – плюнуть некуда, ну словом, жил этот помещик, как царь. Когда взвод наш прибег на конях в эту усадьбу, там как раз офицеры пировали с хозяином, нас не ждали. Всех их порубили, в саду и на лестнице, а одного взяли в плен. Важный офицер был, а как забрали его – и усы книзу опустил, обмяк весь со страху. Григория Пантелевича в штаб экстренно вызвали, остались мы сами хозяева, зашли в нижние комнаты, а там стол огромадный, и чего только на этом столе нету! Покрасовались, а начинать страшно, хотя и ужасные мы голодные. «Ну, как, думаем, оно все отравленное?» Пленный наш глядит чертом. Приказуем ему: «Ешь!» Жрет. Не с охотой, а жрет. «Пей!»
Опять же пьет он. Из каждой блюды заставили по большому куску пробовать, из каждой бутылки – по стакану пить. Распухает проклятый на наших глазах от этих харчей, а у нас соленые слюни текут. Потом, видим, что офицер не помирает, и мы приступили. Наелись, напились пенистого вина по ноздри.
Глядь, а офицера чистить с обоих концов начинает. «Ну, думаем, пропали!
Сам, гад, отравленный корм ел и нас обманул». Приступаем к нему с шашками, а он – и руками и ногами. «Пане, это же я перекушал по вашей милости, не сумлевайтесь, пища здоровая!» И тут мы взялись обратно за вино! Нажмешь пробку, она стрельнет, будто из винтовки, и пена клубом идет, ажник со стороны глядеть страшно! От этого вина я в ту ночь до трех раз с коня падал! Только сяду в седло, и сызнова меня – как ветром сдует. Вот такое вино кажин день пил бы натощак по стакану, по два и жил бы лет до ста, а так разве свой срок доживешь? Разве это, к примеру, напиток? Зараза, а не напиток! От него, от падлы, раньше сроку копыта откинешь… – Прохор кивком головы указал на кувшин с самогоном и… налил себе стакан доверху.
Дуняшка ушла спать к детям в горницу, спустя немного поднялся и Прохор.
Покачиваясь, он накинул внапашку полушубок, сказал:
– Кувшин не возьму. Душа не позволяет ходить с порожней посудой…
Прийду, и зараз меня баба зачнет казнить. Она это умеет! Откудова у нее такие вредные слова берутся? Сам не знаю! Прийду выпимши, и она, к примеру, говорит так: «Кобель пьяный, безрукий, такой-сякой, разэтакий!»
Тихочко и спокойночко образумляю ее, говорю: «Где же ты, чертова шалава, сучье вымя ты, видала пьяных кобелей, да ишо безруких? Таковых и на свете не бывает». Одну подлость опровергаю – она мне другую говорит, другую опровергаю – она мне третью подносит, так у нас всенощная и идет до зари… Иной раз начертеет ее слухать – уйду под сарай спать, а другой раз прийдешь выпимши, и ежели она молчит, не ругается – я уснуть не могу, истинный бог! Чего-то мне вроде не хватает, какая-то чесотка на меня нападет, – не усну, и шабаш! И вот затрону супругу, и опять она пошла меня казнить, ажник искры с меня сыпются! Она у меня от черта отрывок, а деваться некуда, пущай лютует, от этого она злей в работе будет, верно я говорю? Ну, пойду, прощайте! То ли уж мне в яслях переночевать, не тревожить ее нынче?