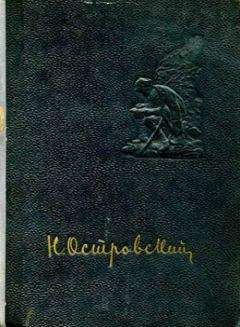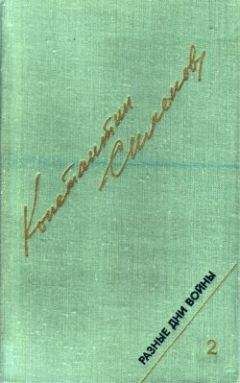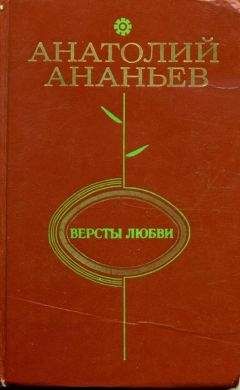Анатолий Ананьев - Годы без войны (Том 2)
— Да ты не болен ли уж?
— Нет, — возразил Павел.
— Ну так и не переживай, разберутся. Уверяю тебя, разберутся, мне-то уж поверь.
XXV
Прилетевший из Вены и приехавший из аэропорта домой на машине, посланной за ним тестем-генералом, Борис был встречен в семье как самый желанный и дорогой всем человек.
Когда после первых минут объятий, поцелуев, восклицаний и расспросов о том, как долетел, как Вена и т. п., обласканный тестем и тещей, не чаявшей, как она говорила, в нем души ("Дипломат, дипломат", — повторяла она, обращаясь ко всем), и обласканный беременной и почти не выходившей никуда из дому женой, Борис оказался за столом, он почувствовал (по тому обществу, которое было собрано для него), что будто не покидал Вены.
В честь его приезда давался званый обед, и на него приглашены были двое военных, друзей и сослуживцев тестя, и по настоянию тещи два дипломата из Министерства иностранных дел, так что у Бориса была возможность и послушать и показать себя перед всеми. Военные — они были генералами, были в регалиях, от которых рябило в глазах Бориса, — только что побывавшие в поездке по войскам, завели разговор об этой поездке и, обсуждая подробности ее, высказывали те свои суждения, по которым нетрудно было догадаться, что беспокоило генералов.
Дипломаты говорили о разрядке, достигнутой наконец (благодаря усилиям советской дипломатии) в Европе, и им казалось, что достигнутое так прочно теперь вошло в сознание европейцев, что трудно будет кому-либо сломать это.
— Выгоды от разрядки настолько очевидны для всех, — говорил один из дипломатов, — что надо быть слепым, чтобы не видеть этого. Сломать разрядку — это все равно что ни с. того ни с сего поджечь свой собственный дом. Но для этого надо прежде сойти с ума. — Он верил в добрые намерения людей и призывал верить в это других и строить на этой основе дипломатию; но он забывал только, что, кроме добрых намерений, какие всегда были и будут у простых людей, есть еще намерения, диктуемые желанием наживы и власти, и что человечество не раз страдало от этих других намерений.
— А не кажется ли вам, что нынешнее затишье — это затишье перед бурей? — заметил другой дипломат, что был постарше и больше слушал, чем говорил. Он придерживался иного мнения и полагал, что Запад (в представленных теперь правительствах) способен на любое коварство и что надо быть начеку и смотреть не только на то, что происходит на открытой сцене; еще есть закулисные приготовления, и о них нельзя забывать. — Вы посмотрите, как растут атомные арсеналы, — настораживая всех, заключил он.
Но оттого, что подвергать сомнению достигнутое в области разрядки было непопулярным, дипломату возразили, и мнение его осталось бы в забвении, если бы не Борис, вдруг (по своей молодости и наивности) взявшийся поддержать его.
— Может быть, слова мои прозвучат как слова лейтенанта из окопа, — сказал он, вступая в разговор, — но у нас там тоже такое ощущение, что за кулисами что-то происходит. — Он вспомнил разговор с Белецким, но не решился пересказать его. — Мы там, в сущности, на переднем крае.
— Ты вчера был просто великолепен, — сказала ему на другой день утром Антонина, во время званого обеда сидевшая рядом с матерью и наблюдавшая за ним. — Я гордилась тобой. И мама, — добавила она, что казалось ей важным для Бориса.
— Не так уж и великолепен, — возразил Борис, хотя ему приятен был комплимент жены.
Но приятней было ему воспоминание, как дипломат, которого он поддержал, излагал, после застолья подойдя к нему, свой во многом отличный от общего взгляд на нынешнюю международную обстановку. Дипломат пригласил затем Бориса зайти в министерство, чтобы продолжить, как он, улыбнувшись, заметил, "наш разговор", и для Бориса это было той неожиданной, вдруг будто открывшейся возможностью к повышению, о которой он всегда мечтал. "Вот так-то вот", — отходя от жены к окну, мысленно проговорил он теперь. Он вспомнил еще, как вслед за дипломатом к нему подошли военные и говорили с ним так, словно он был не третьим там, у себя в посольстве, секретарем, о каких говорят — кто куда пошлет, не младшим лейтенантом по отношению к генералам, имевшим положение и власть, а равным или приблизительно равным с ними и по-своему влиятельным (в своей области) человеком.
— А ты знаешь, — задумчиво проговорил он, уже от окна повернувшись к Антонине, стоявшей посреди комнаты. Она была не в джинсах, как привычно было видеть ее Борису, а в платье, которое должно было скрыть ее беременность; но беременность ее уже ничем невозможно было скрыть. — Какие интересные и значительные люди были вчера, — будто опровергая, что только что думал об этих людях или думала о них Антонина, сказал он, продолжая размышлять о вчерашних событиях.
Он как будто вплотную прикоснулся к тем сферам государственной жизни, о которых имел представление, что сферы эти существуют и что действуют в них необыкновенные, недосягаемые по уровню знаний и интеллекту люди; но люди эти были так обыкновенно просты, доброжелательны и приятны и открытие это так возбуждающе-радостно действовало теперь на Бориса ("Да, да, не боги горшки обжигают", — повторял он это известное, что отражало суть его размышлений), будто он был уже приобщен к тем сферам, в которых предстояло ему блестяще, как он надеялся, проявить себя. Он чувствовал в себе ум, силу, энергию, как бегун, вышедший на стартовую дистанцию; и так как до сигнального выстрела было еще время примериться и осмотреться, Борис не без гордости оглянулся на то свое прошлое, которое было — жизнью его в деревне, было — теми корнями, которые, дав ему энергию, ум и силу, помогли выбраться сюда. Жизнь отца, как и сестер и братьев, разъехавшихся по стране и писавших ему, как и московская (студенческая) жизнь Романа и своих, по институту, друзей, из которых первым был и оставался Матвей Кошелев, определившийся в журналисты-международники, но пока не выезжавший еще за границу, — все это было таким далеким сейчас от Бориса. Он тряхнул головой, сбрасывая будто что-то, и подошел к жене.
Но он не мог сказать ей, что в эти минуты так радостно волновало его; он понимал, что нельзя было делать этого и что никакой фразой (наподобие: плох тот солдат, который не мечтает стать маршалом) не сможет оправдаться за эти свои мысли перед женой.
— Что говорят врачи? — спросил он, бросив взгляд на ее живот и сейчас же посмотрев в глаза ей. — Скоро?
— Ждешь?
— Да.
— Мама сказала, завтрак готов, — вместо того чтобы продолжить разговор о беременности, уклончиво ответила Антонина. — Ты знаешь, у нас не принято опаздывать. — И в то время как она произносила это строгое, что должно было вразумить мужа, глаза, устремленные на него, говорили другое, что она любит его. "Да, да, — говорили ему ее глаза, — ты не должен сомневаться".
— Опаздывать всегда дурно, — улыбнувшись, заметил Борис и, продолжая удерживать ее за плечи возле себя, направился с пей в столовую, где все уже были в сборе и ждали их.
XXVI
За завтраком внимание всех опять было обращено на Бориса.
"Утер нос, уте-ер", — весело говорил тесть-генерал, вспоминая вчерашнее и в шутку называя Бориса то советником-посланником, то послом. Дипломатическое звание это можно было условно приравнять к званию маршала или по меньшей мере генерала с маршальской звездой, какое имел сам Петр Андреевич (так звали тестя) и какое Борису предстояло еще заслужить; но Петру Андреевичу приятно было так называть зятя, выглядевшего энергичным, умным и смелым молодым человеком, и особенно приятно было теще, Марии Дмитриевне, разливавшей чай и не вмешивавшейся как будто в разговор, но не менее других желавшей возвышения Бориса.
После завтрака перешли в гостиную, теперь уже обсуждая планы Бориса на отпуск. Петр Андреевич советовал увлечься рыбалкой, называл места в Подмосковье, куда можно было бы поехать, и предлагал машину на субботу или воскресенье, когда мог выделить ее, но Мария Дмитриевна, по-иному, как она говорила, по-женски смотревшая на вещи, возражала против рыбалки. Ей казалось, что Борису надо использовать отпуск для расширения связей, нужных, как добавляла она, и бралась кое-что устроить.
Борис, которому заманчиво было и предложение тестя, тем более что тесть обещал сам поехать с ним, более склонялся к тещиному варианту и стеснялся только сказать об этом. "На рыбалку — это хорошо, но когда ты уже генерал, — подумал он. — А так ведь все на свете можно прорыбалитъ". Но он пе сказал этого тестю, как и не сказал «да» теще; он только поглядывал на беременную (на последнем месяце) Антонину и улыбался, давая понять, что у него будут совсем иные, чем эти строящиеся планы, заботы и что все будет изменепо и отложено радп этих забот. "Так что же вы хотите от меня?" — весело и вопросительно, глазами, отвечал он тестю и теще, про себя полагая, что найдет, пока Антонина будет в родильном доме, куда употребить время.