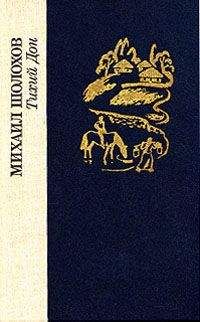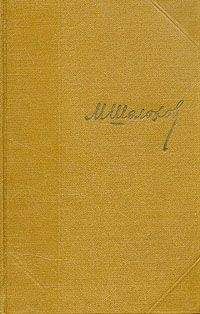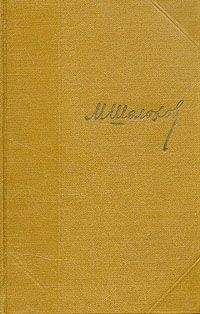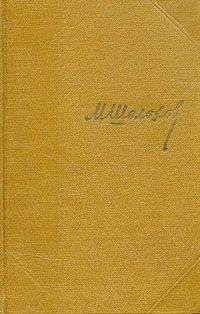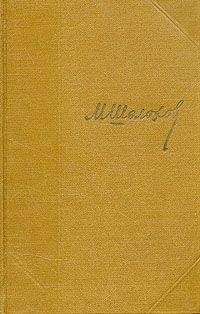Михаил Шолохов - Тихий Дон. Том 2
После смерти Ильиничны Кошевой, оставшийся в доме единственным и полновластным хозяином, казалось бы, должен был с еще большим усердием взяться за переустройство хозяйства, за дальнейшее его расширение, но на деле вышло не так: с каждым днем Мишка работал все менее охотно, все чаще уходил из дому, а вечерами допоздна сидел на крыльце, курил, размышлял о чем-то своем. Дуняшка не могла не заметить происходившей с мужем перемены.
Она не раз с удивлением наблюдала, как Мишка, ранее трудившийся с полным самозабвением, вдруг ни с того ни с сего бросал топор или рубанок и садился где-либо в сторонке отдыхать. То же самое было в поле, когда сеяли озимую рожь: пройдет Мишка два гона, остановит быков, свернет цигарку и долго сидит на пашне, покуривает, морщит лоб.
Унаследовавшая от отца практическую сметку, Дуняшка с тревогой думала:
«Ненадолго его хватило… Либо хворает, либо просто приленивается. Беды я наберусь с таким муженьком! Как, скажи, он у чужих людей живет: полдня курит, полдня чухается, а работать некогда… Надо с ним потолковать потихоньку, чтобы не осерчал, а то, ежели он будет и дальше так стараться в хозяйстве, нужду из дома и лопатой не выгребешь…»
Однажды Дуняшка осторожно спросила:
– Что-то ты не такой стал, Миша, аль хворость тебя одолевает?
– Какая там хворость! Тут без хворости тошно, – с досадой ответил Мишка и тронул быков, пошел за сеялкой.
Дуняшка сочла неудобным продолжать расспросы: в конце концов не бабье это дело – учить мужа. На том разговор и кончился.
Дуняшка ошибалась в своих догадках. Единственной причиной, мешавшей Мишке работать с прежним старанием, было росшее в нем с каждым днем убеждение, что преждевременно осел он в родном хуторе. «Рановато я взялся за хозяйство, поспешил…» – с досадой думал Мишка, читая в окружной газете сводки с фронтов или слушая по вечерам рассказы демобилизованных казаков-красноармейцев. Но особенно тревожило его настроение хуторян: некоторые из них открыто говорили, что Советской власти к зиме будет конец, что Врангель вышел из Таврии и вместе с Махно подходит уже к Ростову, что союзники высадили в Новороссийске огромный десант… Слухи, один нелепей другого, распространялись по хутору. Казаки, вернувшиеся из концентрационных лагерей и с рудников, успевшие за лето отъесться на домашних харчах, держались особняком, по ночам пили самогон, вели какие-то свои разговоры, а встречаясь с Мишкой, с деланным равнодушием спрашивали:
«Ты газетки прочитываешь, Кошевой, расскажи, как там, Врангеля скоро прикончат? И верно это или брехня, что союзники опять на нас прут?»
Как-то под воскресенье вечером пришел Прохор Зыков. Мишка только что вернулся с поля, умывался, стоя возле крыльца. Дуняшка лила ему воду из кувшина на руки, с улыбкой смотрела на худую загорелую шею мужа. Прохор, поздоровавшись, сел на нижней ступеньке крыльца, спросил:
– Про Григория Пантелевича ничего не слыхать?
– Нет, – ответила Дуняшка, – не пишет.
– А ты по нем соскучился? – Мишка вытер лицо и руки, без улыбки глянул в глаза Прохора.
Прохор вздохнул, поправил порожний рукав рубахи.
– Само собой. Вместе всю службу сломали.
– И сызнова думаете доламывать?
– Чего это?
– Ну, службу.
– Мы с ним свое отслужили.
– А я думал, что ты его ждешь не дождешься опять служить, – все так же без улыбки продолжал Мишка. – Опять воевать против Советской власти…
– Ну, это ты зря, Михаил, – обиженно проговорил Прохор.
– Чего же зря? Слышу я про всякие разговорчики, какие по хутору ходят.
– Либо я говорил такое? Где это ты слыхал?
– Не ты, а такие вот, вроде тебя с Григорием, какие все «своих» ждут.
– Я этих «своих» не жду, мне все одинаковые.
– Вот и плохо, что тебе все одинаковые. Пойдем в хату, не обижайся, это я шутейно говорил.
Прохор неохотно поднялся по крыльцу и, переступив порог сеней, сказал:
– Шутки твои, браток, не дюже веселые… Об старом забывать надо. Я за это старое оправдался.
– Старое не все забывается, – сухо сказал Мишка, садясь за стол. – Присаживайся вечерять с нами.
– Спасибо. Конешно, не все забывается. Вот руки я лишился – и рад бы забыть, да оно не забывается, кажный секунд об этом помнишь.
Дуняшка, накрывая на стол и не глядя на мужа, спросила:
– Что ж, по-твоему, кто в белых был, так им и сроду не простится это?
– А ты как думала?
– А я так думала, что кто старое вспомянет, тому, говорят, глаз вон.
– Ну, это, может, так по Евангелию гласит, – холодно сказал Мишка. – А по-моему, должон человек всегда отвечать за свои дела.
– Власть про это ничего не говорит, – тихо сказала Дуняшка.
Ей не хотелось вступать в пререкания с мужем при постороннем человеке, но в душе она была обижена на Михаила за его, как казалось ей, неуместную шутку с Прохором и за ту неприязнь к брату, которую он открыто выказал.
– Тебе она, власть, ничего не говорит, ей с тобой не об чем разговаривать, а за службу в белых надо отвечать перед советским законом.
– И мне, стал быть, отвечать? – поинтересовался Прохор.
– Твое дело телячье: поел да в закуток. С денщиков тут не спрашивают, а вот Григорию придется, когда заявится домой. Мы у него спросим за восстание.
– Ты, что ли, будешь спрашивать? – Дуняшка, сверкнув глазами, поставила на стол миску с молоком.
– И я спрошу, – спокойно ответил Мишка.
– Не твое это дело… Без тебя найдутся спрашивальщики. Он в Красной Армии заслужил себе прощение.
Голос Дуняшкин вздрагивал. Она села к столу, перебирая пальцами оборки завески. Мишка, словно он и не заметил волнения, охватившего жену, с тем же спокойствием продолжал:
– Мне тоже интересно спросить. А насчет прощения погодить надо… Надо ишо разглядеть, как он его заслужил. Нашей крови он пролил немало. Ишо примерить надо, чья кровь переважит…
Это был первый разлад за время их совместной жизни с Дуняшкой. В кухне стояла неловкая тишина. Мишка молча хлебал молоко, изредка вытирая рушником губы. Прохор курил, посматривая на Дуняшку. Потом он заговорил о хозяйстве. Посидел еще с полчаса. Перед уходом спросил:
– Кирилл Громов пришел. Слыхал?
– Нет. Откуда он явился?
– Из красных. Тоже в Первой Конной был.
– Это он у Мамонтова служил?
– Он самый.
– Лихой вояка был, – усмехнулся Мишка.
– Куда там! По грабежу первый был. Легкая у него рука на это.
– Рассказывали про него, будто он пленных рубил без милости. За ботинки солдатские убивал. Убьет – одними ботинками пользуется.
– Был такой слух, – подтвердил Прохор.
– Его тоже надо прощать? – вкрадчиво спросил Мишка. – Бог, дескать, прощал врагов и нам велел, или как?
– Да ить как сказать… А что ты с него возьмешь?
– Ну, я бы взял… – Мишка прищурил глаза. – Я бы так с него взял, что он опосля этого и дух выпустил! Да он от этого не уйдет. В Вешках Дончека есть, она его приголубит.
Прохор улыбнулся, сказал:
– Вот уж истинно, что горбатого могила выпрямит. Он и из Красной Армии пришел с грабленым добром. Моей бабе его жененка похвалялась, что какую-то пальто женскую ей принес, сколько там платьев и разного другого добра. Он в бригаде Маслака был и оттуда подался домой. Не иначе он дезиком заявился, оружие с собой принес.
– Какое оружие? – заинтересовался Мишка.
– Понятно какое: укороченную карабинку, ну, наган, может, ишо что-нибудь.
– В Совет он ходил регистрироваться, не знаешь?
Прохор рассмеялся, махнул рукой:
– Его туда и на аркане не затянешь! Я так гляжу, что он в бегах. Он не нынче-завтра из дому смотается. Вот Кирилл, по всему видать, ишо думает воевать, а ты на меня грешил. Нет, браток, я свое отвоевал, наелся этого добра по самую завязку.
Прохор вскоре ушел. Спустя немного вышел во двор и Мишка. Дуняшка покормила детей и только что собралась ложиться, как вошел Мишка. В руках он держал что-то завернутое в мешковину.
– Куда тебя черти носили? – неласково спросила Дуняшка.
– Свое приданое доставал, – беззлобно улыбнулся Мишка.
Он развернул заботливо упакованную винтовку, распухший от патронов подсумок, наган и две ручные гранаты. Все это сложил на лавку и осторожно нацедил в блюдце керосину.
– Откуда это? – Дуняшка движением бровей указала на оружие.
– Мое, с фронта.
– А где же ты его хоронил?
– Где бы ни хоронил, а вот соблюл в целости.
– Вот ты, оказывается, какой потаенный… И не сказал ничего. От жены и то хоронишься?
Мишка, с деланной беззаботностью улыбаясь и явно заискивая, сказал:
– И на что это тебе было знать, Дуняшка? Это дело не бабье. Нехай оно – это имение – лежит, оно, девка, в доме не лишнее.
– А к чему ты его в хату приволок? Ты же законником стал, все знаешь… А за это тебе не прийдется по закону отвечать?
Мишка посуровел с виду, сказал:
– Ты дура! Когда Кирюшка Громов оружие приносит – это Советской власти вред, а когда я приношу – окромя пользы, Советской власти от этого ничего не будет. Понимаешь ты? Перед кем же я могу быть в ответе? Болтаешь ты бог знает что, ложись, спи!