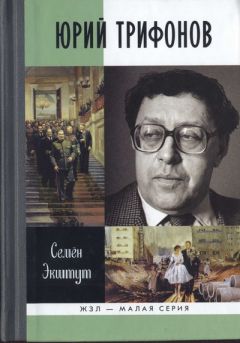Юрий Трифонов - Все московские повести (сборник)
В этой телеграмме заметны следы Шуриного сочинения. «Нравственная упругость» – от Шуры. Зато вот листы, переписанные с документа в тяжелое время, шесть лет назад – Галя умирала, и сам чуть не умер от пытки горем, только в архиве и спасался, – громаднейшая телеграмма Мигулина в Москву и в РВС фронта. Как радовался – сквозь муку – тому, что нашел! Один старичок подсказал, сообщил шифры, фонд, опись. Хороший старичок, независтливый, хотя в том же времени ковырялся. Теперь уж и старичка нет, и Гали…
«24 июня 19 ч. ст. Анна.
Назначая меня комкор Особого, РВС Южфронта заявил, что этот бывший экскор силен, что в нем до пятнадцати тысяч штыков, в числе коих до пяти тысяч курсантов, и что это одна из боевых единиц фронта. Если такие же сведения даны вам, то я считаю революционным долгом донести о полном противоречии этих сведений с истинным положением вещей. Я нахожу это недопустимым, ибо, считая информационные данные как нечто положительное, мы закрываем благодаря им глаза на действительную опасность и, убаюканные, не принимаем своевременно мер, а если принимаем, то слишком поздно. Я стоял и стою не за келейное строительство социальной жизни, не по узкопартийной программе, а за строительство гласное, за строительство, в котором народ принимал бы живое участие. Я тут буржуазии и кулацких элементов не имею в виду. Только такое строительство вызовет симпатии крестьянской толщи и части истинной интеллигенции. Докладываю, что особкор имеет около трех тысяч штыков на протяжении 145 верст по фронту. Части измотаны и изнурены. Кроме трех курсов, остальные курсанты оказались ниже критики, и их осталось от громких тысяч жалкие сотни и десятки. Коммунистический полк разбежался; в нем были люди, не умевшие зарядить винтовку. Особкор может играть роль завесы. Положение особкора спасается сейчас только тем, что вывезены мобилизованные казаки из Хоперского округа. Расчет генерала Деникина на этот округ полностью не оправдался. Как только белогвардейщина исправит этот пробел, особкор, как завеса, будет прорван. Не только на Дону деятельность некоторых ревкомов, особотделов, трибуналов и некоторых комиссаров вызвала поголовное восстание, но это восстание грозит разлиться широкою волною в крестьянских селах по лицу всей республики. Если сказать, что на народных митингах в селах Новая Чигла, Верхо-Тишанка и других открыто раздавались голоса “давай царя”, то будет понятным настроение толщи крестьянской, дающей такой большой процент дезертиров, образующих новые отряды зеленых. Восстание в Иловатке на реке Терсе и пока глухое, но сильное брожение в большинстве уездов Саратовской губернии грозит полным крахом делу социальной революции. Я человек беспартийный, но слишком много отдал сил и здоровья в борьбе за социальную революцию, чтобы равнодушно смотреть, как генерал Деникин будет топтать красное знамя труда. Устремляя мысленный взор вперед и видя гибель социальной революции, ибо ничто не настраивает на оптимизм, а пессимист я редко ошибающийся, считаю необходимым рекомендовать такие меры в экстренном порядке: первое – усилить особкор свежей дивизией, второе – перебросить в его состав 23-ю дивизию как основу… или же назначить меня командармом девять… созыва народного представительства… передал в РВС фронта много заявлений станичников… а когда крестьянин пожаловался, его убили. Сами увидите, кто истинный коммунист, кто шкурник…» Что-то путаное, злое, отчаянное, трудно разобрать в три часа ночи, голова устала, но, когда приехал с этим текстом домой – страшно обрадованный! – и тут же, сев возле Галиной кровати, стал читать вслух, Галя вдруг перебила, спросив: «Паша, это кому-нибудь интересно сейчас?» Удивительно непохоже на Галю. Ей всегда интересно. И если теперь неинтересно, значит, кончается ее жизнь.
Я объясняю: то, истинное, что создавалось в те дни, во что мы так яростно верили, неминуемо дотянулось до дня сегодняшнего, отразилось, преломилось, стало светом и воздухом, чего люди не замечают, о чем не догадываются. Дети не понимают. Но мы-то знаем. Ведь так? Мы-то видим это отражение, это преломление ясно. Поэтому так важно теперь, через полвека, понять причину гибели Мигулина. Люди погибают не от пули, болезни или несчастного случая, а потому, что сталкиваются величайшие силы и летит искрами смерть. Она смотрит долгим взглядом, небывало долгим, темным, глубинным – это прощание, навсегда запомнил лицо, щекой на подушке, упавшее, бескровное, в изморози близкой разлуки, и только взгляд бесконечно страстный, пронзительный, – и спрашивает: «А почему погибаю я?» Тихий шепот и намек на улыбку означают, что можно не отвечать. Это вопрос просто так. Себе или никому. Говорю сердито: «Ты не погибаешь! Не мели, пожалуйста, ерунды!» Привычные слова лжи, а сам думаю: они потом никогда не поймут, как мы все это смогли вынести… какие силы нас разрывали… Мигулин погиб оттого, что в роковую пору сшиблись в небесах и дали разряд колоссальной мощи два потока тепла и прохлады, два облака величиной с континент – веры и неверия , – и умчало его, унесло ураганным ветром, в котором перемешались холод и тепло, вера и неверие, от смещения всегда бывает гроза и ливень проливается на землю. Таким же ливнем кончится этот нещадный зной. И я наслажусь прохладой, если доживу. Мы с Галей стоим в беседке, куда прибежали, спасаясь от дождя – тяжелый ливень лупит в крытую толем крышу. Белыми водяными шарами колышется туман в саду. «Обязательно поговорить! В саду, в два часа».
Ливень, беседка, мокрое платье, испуганное Галино лицо – из какого-то гимназического далека. Тут назначались свидания. Ножичком вырезаны имена…
– Что случилось?
– Павлик, я опять боюсь за него! Он страшно ругался с Логачевым, с Хариным… Грозил кого-то убить…
Бог ты мой, я холодею от ужаса. Моя Галя в страхе за кого-то – не за меня! Плачет из-за чужого. Немеющими губами спрашиваю:
– Ты так его любишь? – Это странно: будто бы знаю, кого его , и в то же время не могу понять. Безумно напрягаюсь, стараясь догадаться, кто этот человек, который так хорошо знаком.
Разве не видишь? Без него жить не могу.
Вдруг: не Галя, а Ася! Это Ася в беседке! В саду дома уездного воинского начальника. Она меня вызвала запиской. Это уж после возвращения Мигулина из второй, июльской поездки в Москву, после разговора в ЦК, в Казачьем отделе, вернулся ободренный и полный сил – Особый корпус, созданный против повстанцев, теперь утратил значение, фронт перекатился на север, Деникин захватил Донщину, Царицын, Харьков. Теперь воевать не с повстанцами, а с Деникиным! Мигулин формирует новый корпус – Донской казачий. Мы стоим в Саранске. Формирование идет потрясающе медленно. А Шура получил новое назначение: в Реввоенсовет Девятой армии. Вот отчего Ася в испуге.
– Ведь он единственный человек, с кем Сергей Кириллович может разговаривать! Хотя и с ним спорит… Но остальных на дух не принимает. Остальные – враги.
– Так уж и враги?
– Враги! – В глазах Аси непреклонность и гнев, мигулинский гнев. Шепчет: – Нарочно шлют нам… из северных округов… про них известно, они там безобразничали… Он их видеть не может! Ненавидит хуже Деникина!
– Куда шлют?
– Да все наши политкомы оттуда… Хоперские…
Сборы накануне отъезда. Разговор с Шурой в хозяйской комнате, где запах чабреца, сундуки, иконы. Хозяин сочувственно расспрашивает: куда отступили? Где фронт? Почему мировой пролетариат дремлет, не чухается? Будто бы озадачен, но по роже – бритой, ухмыляющейся – видно, что рад. Вдруг сообщает шепотом:
– Я вам, граждане коммунисты, скажу откровенно, отчего у вас война неудалая: генералов у вас нет. Книжники да конторщики по штабам, а в главном штабе – Левка очкастый. Разве он против генерала сообразит?
Шуре неохота покидать несчастный мигулинский корпус, но и оставаться дольше мочи нет. Верно, верно шипит кулачина: генералов нет. А если есть кто, мы их, как грузди, маринуем. Глупость невероятная. Любимое Шурино: глупость невероятная. Потому что все усилия Шуры сдвинуть дело, все его телеграммы, вся брань с деятелями Южфронта – устно и по прямому проводу – не дают результата. Как сказано: и хочется, и колется. В июне хочется, в июле колется, потом то так, то этак. Оттого Шура зол, что никому втолковать не может: «Поверьте до конца!» И на Мигулина сердит потому, что тот бешенствует и себе вредит: прогнал, едва не кулаками, чрезвычайного представителя Южфронта, который приехал проверять работу политотдела.
Входят Логачев и Харин, политкомы, совсем молодые, Логачеву года двадцать три, Харин чуть старше. Логачев – из Новочеркасска, студент, Харин – ростовский, рабочий, котельщик. Оба проводили реквизиции в северных округах в феврале и марте, прославились как твердые, неустрашимые исполнители – их называют «хоперские коммунисты», – и у Мигулина, конечно, с ними вражда.
– Значит, бросаете нас, Александр Пименович? – бледно улыбается маленький востроносый Логачев. Смотрит, как всегда, высокомерно, откинув голову. – А не похож ли ваш отъезд на бегство известных тварей с корабля?