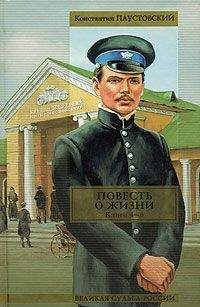Константин Паустовский - Том 4. Повесть о жизни. Книги 1-3
Люсьена поправила волосы, села на нары и запела нарочито визгливым и разухабистым голосом:
Здравствуй, моя Любка, здравствуй, дорогая,
Здравствуй, дорогая, и прощай!
Ты зашухерила всю нашу малину —
Так теперь маслины получай.
Ксендзы дружно подхватили эту песню. Потом Люсьена подумала и сказала:
— Вот убьют, так похороните меня в цыганской шали. А что ксендзы меня отпоют по первому разряду, так в этом я не сомневаюсь.
Среди ксендзов, лежавших ничком (выстрелы были реже, но еще не затихли), началось какое-то странное шевеление. Было похоже, что ксендзы изо всех сил сдерживаются, чтобы не расхохотаться.
— А в рай меня пустят, — уверенно сказала Люсьена. — Даже очень свободно. Потому что я спою Петру такую шансонетку, что он будет у меня рыдать от смеха и сморкаться и скажет: «Мадемуазель Люсьена, я прямо жалею, что встретил вас в этом нудном раю, а не на грешной земле. Мы бы с вами пожили так, что люди только бы крутили головами и говорили: „Вот это — да!“»
Самый сдержанный из ксендзов заметил:
— То есть кощунство, панна Люсьена! Да простит вас святая дева. А мы вас давно простили.
— Вот за это спасибо, — ответила Люсьена. И вдруг добавила очень тихо: — Мужички вы мои дорогие! Если бы вы знали, как мне легко на сердце. Никто не пристает, не пускает слюни, не подкатывается ко мне, как к легкой женщине. Да никто и не знает, что у меня грудь прострелена. Стрелялась я в Луганске. Есть такой проклятый город. Там у меня умер мальчик. Мой мальчик…
Она легла ничком на нары и затихла. Мы молчали.
— И зачем я еду в эту чертову Одессу, что мне там нужно! — вдруг сказала Люсьена, не поднимая головы.
Я встал и осторожно открыл дверь. Какая-то синяя маленькая река петляла в сухих степях. Белое осеннее солнце сверкало в небе. Его нежное увядающее тепло прикоснулось к лицу. К югу, к далекому морю, куда тащился, кряхтя и качаясь, наш поезд, тянули в туманной высоте журавлиные стаи.
В Корсуни в поезд села конопатая рыжая баба. Она ехала в Знаменку справлять свадьбу своей дочери и везла ей в подарок тяжелый комод, набитый приданым.
Баба была крикливая, остервенелая. Из-под юбки у нее висели грязные желтые кружева и трепались о смазные подкованные сапоги.
Баба командовала серыми от голода железнодорожниками, как атаман. Она покрикивала на них и требовала, чтобы комод втащили в теплушку.
Но в теплушку бабу с комодом не пустили. Весь поезд разъярился на нее за ее комод, за кровяное лоснящееся лицо и визгливый голос.
Впервые, пожалуй, я видел такую классическую кулачку — алчную, злую, наглую от сознания своего довольства и сытости среди всеобщего разорения и нищеты. В то время на Украине было еще много жестокого и спесивого кулачья. За свой достаток такие бабы могли придушить родного отца, а их «сыночки» шли в банды к атаманам, к Махно и Зеленому, и хладнокровно закапывали людей живыми в землю, разбивали прикладами головы детям и вырезали ремни из спин у евреев и красноармейцев.
Баба металась около комода и то развязывала на шее теплый платок, то снова туго завязывала его и кричала надсаженным голосом:
— Насажали полон поезд голодранцев, а нам, хозяевам, нету места! Да у них за душой одна дыра от штанов, у тех городских с ихними дамочками! Их давить надо, как червяков, а не катать с Киева до Одессы.
Около бунтующей бабы стоял сутулый дежурный по станции и уныло молчал.
— А ты чего стоишь, как баран! За что я тебе сало да хлеб давала? Чтобы всякая голота надо мной здесь насмешки делала? Обещался сажать — так сажай! А то стребую с тебя и хлеб и сало обратно.
Дежурный махнул рукой и пошел вдоль поезда. Он заглядывал в двери и, заискивая, вполголоса, чтобы не слышала баба, просил пассажиров:
— Пустите ее, эту скаженную, сделайте такую милость. У нее муж староста, бандит. Он меня забьет до смерти. Опять же и хлеба нету ни крошки, а она дала мне буханку.
Но теплушки были неумолимы. Тогда дежурный договорился с машинистом, и тот согласился за обещанное сало и хлеб поставить комод на переднюю площадку паровоза между фонарями.
Комод с трудом втащили на паровоз и крепко прикрутили толстой проволокой. Баба села на него, как наседка, прикрыла его своими грязными юбками, закуталась в теплый платок, и поезд тронулся.
Так мы и ехали с комодом на паровозе и разъяренной бабой на нем под свист и улюлюканье мальчишек, встречавшихся нам на пути.
На всех остановках баба развязывала кошелку и ела жадно и много. Может быть, ей и не всегда хотелось есть, но она делала это нарочно, со злорадством, с вызовом, чтобы отомстить голодным пассажирам и покуражиться над ними.
Она резала огромными кусками нежное розовое сало, раздирала цепкими пальцами жареную курицу и запихивала в рот мягкий пшеничный хлеб. Щеки ее сверкали от жира. Поев, она намеренно громко рыгала и отдувалась.
Баба редко сходила со своего комода и даже по нужде не отходила от паровоза дальше чем на два-три шага. В этом было не только бесстыдство, но и полное презрение ко всем.
Машинист крякал и отворачивался, но молчал. Он еще не получил ни крошки хлеба и ни одного «шматка» сала. Все это было обещано ему только в Знаменке, когда он довезет бабу до места.
Весь поезд ненавидел бабу на комоде люто и страшно. Ненависть эта заглушала у пассажиров даже страх смерти. Иные дошли до того, что с нетерпением ждали, когда же какая-нибудь «хорошая банда» по-настоящему обстреляет наш поезд. Все были уверены, что бабу убьют в первую очередь, — она со своим комодом представляла идеальную мишень.
Где-то за станцией Бобринской наши мечты о мести сбылись, но только отчасти. Под вечер поезд обстреляли махновцы. Несколько пуль попало в комод. Баба уцелела, но часть приданого пули побили и продырявили.
С тех пор баба сидела окаменелая, сжав синие губы, и в глазах ее было столько черной ненависти, что мимо паровоза без особой надобности пассажиры предпочитали не проходить.
Мы ждали мщения. Я снова вспомнил о пресловутом мамином законе возмездия. Услышав о нем, ксендзы оживились и дружно подтвердили, что такой закон безусловно существует и даже в дни гражданской войны не потерял свою силу, а Люсьена сказала, что никакого закона возмездия нет, а есть тюти мужчины, которые не решаются выкинуть бабу с ее комодом с первого же моста в реку.
Наконец возмездие наступило. День возмездия, как и надо было ожидать, заполняли рваные черные тучи. Они с невероятной быстротой мчались над голыми полями. Полосы тяжелого, как град, дождя били по облезлым стенам вокзала в Знаменке.
Казалось, сама богиня мщения выпустила на землю злые эти тучи, дожди и мокрый ветер.
Началось с того, что баба вместо обещанных пяти фунтов сала и двух буханок хлеба дала машинисту только фунт сала и одну буханку. Машинист не сказал ни слова. Он даже поблагодарил бабу и начал с помощью кочегара сгружать комод с паровоза.
Комод весил пудов пятнадцать, не меньше. Его с трудом стащили с паровозной площадки и поставили на рельсы.
— Два здоровых бугая, — сказала баба, — а один комод сдужить не имеете силы. Тащите его дальше.
— Попробуй сама двинуть его, черта, — ответил машинист. — Без лома не обойдешься. Сейчас возьму лом.
Оп полез в паровозную будку за ломом, но лома не взял, а пустил в обе стороны от паровоза две струи горячего свистящего пара. Баба вскрикнула и отскочила.
Машинист тронул паровоз, ударил в комод, тот с сухим треском разлетелся на части, и из него вывалилось все богатое приданое — ватное одеяло, рубашки, платья, полотенца, мельхиоровые ножи, вилки, ложки, отрезы материи и даже никелированный самовар.
Паровоз с ликующим гудком, пуская пар, прошел по этому приданому к водокачке, сплющив в лепешку самовар. Но этого было мало. Машинист дал задний ход, остановил паровоз над приданым, и из паровоза неожиданно полилась на это приданое горячая вода, смешанная с машинным маслом.
Баба сорвала с себя платок, вцепилась в собственные волосы, рванула их, упала ничком на землю и завыла истошным голосом. Руки ее с вырванным клоком волос судорожно дергались в луже около рельсов, как будто баба собиралась переплыть эту лужу.
Потом она вскочила и бросилась на машиниста.
— Глаза вырву! — закричала она и начала засучивать рукава.
Ее схватили.
Через толпу протискался маленький человек. Он состоял из огромной клетчатой кепки, новых калош и острого носа, торчавшего из-под кепки. Это был зять бабы. Он приехал ее встречать и опоздал.
Зять посмотрел на груды рваного приданого, вытащил сплющенный самовар, швырнул его под ноги бабе и сказал высоким скрипучим голосом:
— Вот, мамочка дорогая, спасибо вам нижайшее за то, что в такой справности доставили наше последнее добро.