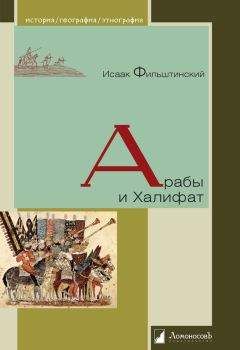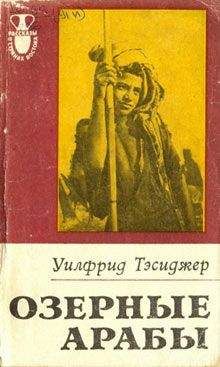Лидия Арабей - Мера времени
— Нет, Зои нет, ты лежи, лежи, поспи еще немного.
— А с кем ты разговариваешь?
— Это Реня… Мы… Я ей читаю свои записки, — ответил Михаил Павлович.
Под Антониной Ивановной скрипнула кровать. Михаил Павлович вошел в спальню, и несколько минут они о чем-то тихонько разговаривали. Потом он вернулся, выдвинул ящик стола, достал уже знакомую Рене зеленую папку, поспешно развязал тесемки и, вынув несколько исписанных фиолетовыми чернилами листков, разложил на столе.
— Уговорил пока не вставать. А это для маскировки, — кивнул он на листки. — Если придут она или Зоя, скажем, что читали мои записки. Так вот, — все еще поглядывая на дверь спальни и понизив голос чуть ли не до шепота, рассказывал Михаил Павлович дальше. — Уже они подъезжали к Орше, но остановились на разъезде — перед закрытым семафором. И в это время налетели бомбардировщики. Люди увидели черные кресты, стали прыгать из вагонов, разбегаться кто куда: под откос, в поле, к лесу. И тут с самолетов ударили пулеметы.
Антонина Ивановна выскочила с Шуриком из вагона и бросилась к елкам, росшим вдоль полотна. Она старалась укрыть Шурика от пуль, заслонить собой. Он не плакал, а только смотрел на нее испуганными глазенками. Глазенки эти до сих пор видит Антонина Ивановна, бывает проснется ночью вся в слезах: снова, говорит, Шурик снился, как бежали с ним тогда от самолетов.
Михаил Павлович теперь говорил уже спокойно, ровным голосом, словно рассказывал не о своих жене и сыне, а о ком-то постороннем, за кого не болело сердце. Но это только казалось так. Он не сводил глаз с фотографии, принесенной Реней. От одной только мысли, что этот юноша, может быть, его сын, заходилось сердце. Но он старался держаться и пока рассказывал, заставлял себя сомневаться, не верить, что это действительно может быть так. Рассказывая Рене о тех страшных днях, он все время вспоминал Шурика таким, каким он был перед самой войной. Особенно хорошо запомнился ему один майский день. Шурик тогда был в белой рубашечке с синим матросским воротником, в коротких штанишках со шлейками крест-накрест. Он стоял у двери, ведущей из одной комнаты в другую и, вцепившись ручонками в портьеры, болтал ножкой. На личико ему падал луч ясного майского дня, Шурик жмурился и смеялся. Почему-то, вспоминая сына, Михаил Павлович всегда вспоминал его таким, именно та минута почему-то особенно запала в память.
— До тех елочек Антонина Ивановна не добежала. Рассказывала, что, когда падала, раненая, думала об одном: как бы не ударить ребенка. Ранило ее, когда она только выскочила из вагона или когда бежала, она не помнит. Помнит только, как опрокинулись перед глазами те елочки и что, падая, старалась не придавить Шурика своим телом. И сколько пролежала под откосом, тоже не помнит. А когда нашли ее люди из соседнего поселка, ни поезда, ни Шурика уже не было. И никто из местных жителей такого мальчика не видел. Возможно, когда поезд уходил, ребенка увели, решили, что мать убита…
— А что вы думаете, возможно, так и было, — прошептала Реня. — Возможно, когда самолеты улетели и поезд отправлялся дальше, кто-то и в самом деле увез мальчика…
— Возможно, что и так… Но Антонина Ивановна никого из тех, кто ехал с ней в вагоне, не знала по фамилии.
— А как же Антонина Ивановна? Что с ней дальше было? — спросила Реня.
— Два месяца пролежала она у чужих людей. Ухаживали за ней. Лечили. Сейчас нам те люди, как родные. Так Антонина Ивановна и осталась на оккупированной территории. Там и Зоя родилась. Я их только в сорок пятом нашел. И обо всем, что случилось, узнал только тогда. А Шурика, как ни искали все эти годы, так и не нашли.
— Я напишу Юре… Все может быть… А вдруг… — горячо шептала Реня.
— А вы давно его знаете? Он вам ничего не рассказывал? Из детства? — допытывался Михаил Павлович.
На какую-то минуту Реня задумалась, словно что-то припоминая.
— Михаил Павлович! — схватила она вдруг его руку. — А знаете, ведь все могло быть именно так, как вы предполагаете. Во время войны наш детдом был эвакуирован в Сибирь и только в сорок пятом возвратился в Калиновку… Возможно, Шурик попал туда в сорок первом, а уже потом вернулся вместе с детдомом в Калиновку.
Михаил Павлович быстро ходил по комнате.
— Так, так, — говорил он, — но имя, имя… А ведь он тогда уже знал свое имя… И фамилию знал…
— Ничего не могу сказать, — в полной растерянности ответила Реня.
Неизвестно сколько еще говорили бы они, так и этак примериваясь к тому, что было и как могло быть, если бы не вышла к ним Антонина Ивановна. Вид у нее и в самом деле был нездоровый. Припухли глаза, и лицо словно отекло.
— А Зои все нет, — вздохнула она. — Каждый вечер поздно приходит. Ты, Ренечка, не знаешь, с кем она там гуляет? Пусть бы вот с тобой дружила.
Рене никак не хотелось доставлять Антонине Ивановне лишних переживаний, рассказывая о Жене, и она только неопределенно пожала плечами.
Михаил Павлович вышел проводить ее в переднюю.
— Спасибо вам, — сказал он тихо. — Теперь я не успокоюсь, пока все не выясню.
— За что же спасибо? Пока не за что, — улыбнулась Реня. — Всего вам доброго. Зое привет передавайте. Скажите, что приходила мириться, да вот, жаль, не застала.
По дороге домой какие-то новые чувства тревожили Реню. Да, конечно, войны она не помнила. Знала о ней только из книг да из кинофильмов. Может, потому и сама война чаще всего представлялась ей вроде книги или фильма, в которых действовали только герои. Это было время подвигов, самоотверженности, мужества. Все ужасы войны, страдания, которые она несла с собой, были, казалось Рене, тоже только для того, чтоб люди могли проявить свою стойкость и непоколебимость. И вдруг она сидит и слушает, как рассказывают не о каких-то героях из романа или кинофильма. Рассказывают об обыкновенной, простой и доброй женщине Антонине Ивановне. Антонина Ивановна не совершала подвигов. Она только страдала. Страдает она и сейчас, хотя после войны прошло уже столько лет. И Реня чувствует, что начинает видеть больше, чем видела и понимала вчера, очень важное открылось ей сегодня.
Дождь, ливший почти целую неделю, наконец перестал. Временами из-за низких плотных туч, быстро плывущих над городом, даже выглядывало солнце. На миг оно озаряло улицы, сверкало в стеклах окон и снова гасло, не успевая согреть холодный сырой воздух.
Зое было уже непривычно ходить по городу в разгар рабочего дня. Раньше в это время она была в цеху, а по улицам гуляла только после пяти часов или по выходным. В рабочие часы город, оказывается, совсем другой. Ходят по магазинам хозяйки с сумками, няньки возят колясочки с детьми, спешат школьники с портфелями, торопятся молодые парни и девушки с панками, наверное, студенты.
А Зоя никуда не спешит. Разглядывает витрины, заходит в магазины. Но скоро ей надоедает бродить одной по улицам. «К кому бы зайти? — думает она. — Может, к Соне Шиманович?» С того времени, как Соня поступила в институт, а Зоя на завод, они ни разу не встречались. А в школе когда-то дружили.
Зоя взглянула на часы. Три часа. «Ну вот, а занятия у Сони кончаются в два».
Зоя шла к подруге и представляла, как та обрадуется, увидев ее. Да и сама она была рада увидеть Соню. Соня станет рассказывать ей, как учится, с кем дружит. «Рассказать ли ей о Жене?» — подумала Зоя. Решила не рассказывать.
Соня едва была видна за ворохом книг, тетрадей и каких-то бумаг, которыми был завален стол. Вместе с нею за столом сидели худощавый длинноносый парень и кудрявая, коротко стриженная девушка. Все трое посмотрели на Зою так, будто она с луны свалилась. Наконец Соня прошептала: «Зойка». Но в голосе подруги Зоя не услышала радости. А парень с девушкой и вообще не скрывали своего недовольства.
— Это ты? — Соня словно не могла сообразить, как могла здесь очутиться Зоя. — А мы тут, видишь, зубрим.
Зоя разделась, присела на краешке стула, тоже заваленного книгами.
— Вот, знакомься, — без особого энтузиазма показала на своих друзей Соня.
— Борис, — буркнул длинноносый, тряхнул Зоину руку и тут же, схватив со стола какую-то книгу, стал торопливо ее листать.
— Света, — сказала стриженая, подав Зое вялые мягкие пальцы и тоже уткнулась в книгу.
— Ну, как дела? — растерявшись от такого приема, спросила Зоя.
— Ох, Зоечка, — вздохнула Соня. — Сама видишь, — показала она на стол, заваленный книгами, тетрадями, бумагами. — Послезавтра зачет, а преподаватель у нас — прямо зверь. На один вопрос не ответил — и все, иди гуляй! А мы еще ничего — ни в зуб ногой. Вот, сидим, зубрим, зубрим…
— А я гуляла… Давно тебя не видела… Дай, думаю, загляну, — уже словно бы оправдывалась Зоя.
— Ну и молодец, что зашла, — не очень искренне сказала Соня. — Если бы только не зачет…
— А много у вас зачетов?
— Ой, и не говори, — схватилась за голову Соня. — Сначала зачеты, потом экзамены. Пять зачетов, пять экзаменов.