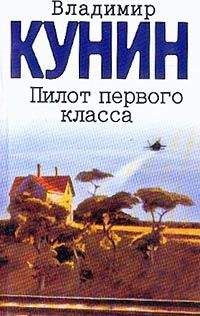Римма Коваленко - Конвейер
— Лидкина бабка возьмет.
Мать вымыла ноги в ведре, надела новые черные туфли, завернула в тряпку бутылки и пошла сдавать их в Мотину лавку, на угол улицы. А я положила в корзинку замок, сложила пальто и понесла все это на первый этаж, к Лидкиной бабке.
Лидка встретила меня удивленным взглядом:
— Чего пришла? То уехала, то опять здесь. Лучше комнату свою не сдавайте, а то вернетесь, а в ней другие живут. Бросит он вас.
— Не бросит, — я уже чувствовала свой верх над Лидкой, — она сама кого хочет бросит. Он ей отрез подарил. У него шкаф есть, кровать на пружинах и мне диван отдельный.
Лидкина бабка уставилась на корзинку и на пальто, которое я положила на стул.
— Не бери ничего, — приказала Лидка, — пусть свое шмутье на помойку несут.
Но бабка не послушалась. Взяла пальто, приложила его к себе, пощупала с обратной стороны материал, потом порылась в корзинке, одобрительно покивала головой и цыкнула на Лидку:
— Ишь ты, богатейка нашлась! На помойку такое добро кидать. С музыки своей, может, мне пальто сошьешь? Ничего не сошьешь со своей музыки.
Мы жили с Людой уже не так лучезарно, как раньше. Люда поругивала мать, что та задрала нос, видать, разбогатела.
— И ты вырастешь такая же, — упрекала меня Люда, — встретишь на улице и глаза отведешь.
Я клялась и божилась, что никогда такой не вырасту. Как начну работать и получать деньги, куплю Люде фетровые боты и лису на шею. Люда не верила в такое свое будущее и опять бралась за мать:
— И красоты в ней особой нет, а вот счастье привалило. Характер в ней есть. Тому и счастье, у кого характер.
Я не спрашивала, что такое «характер», не моя это была участь получать готовые ответы. Однажды попробовала, поверив в плюшевое пальто, и больше не придуривалась, Каждое новое слово, если оно повторялось, само объясняло себя.
Мать пришла в выходной день. Высыпала из кулька на стол дорогие конфеты, подарила Люде белый шелковый шарф и чайник для заварки. Я глядела на ее голубое платье, белые зубы, на светлый узел волос на затылке и не могла объединить себя с ней воедино. Она принесла и мне подарок — новое платье в красную клетку, с рукавами-фонариками. Сначала удивилась, потом заплакала, когда я, сцепив на животе пальцы, отказалась его примерять.
— Это что же за характер, — сокрушалась она, — у нее аж тело стало деревянное, такой внутри характер.
Люда обиженно глядела на нас обеих, когда мать уходила, сказала:
— Ты бы и Наталье что-нибудь подарила.
Мать у двери сбросила туфли, сняла чулки и оставила их для Натальи.
В эти нелегкие дни моей жизни появилась рядом со мной первая мечта. Она была не во мне, а рядом, шагала по дороге в детский сад, садилась на пол у раскладушки во время мертвого часа. Мечта называлась: «Я прихожу во двор».
Начиналась мечта у ворот. Они были раскрыты, и уже с улицы я видела, что Лидка, Ося, Коля и Миша-маленький стоят посреди двора и ждут меня. У меня за спиной большой и тяжелый мешок, они еще не знают, что в нем, и глядят настороженно, готовые и принять и прогнать. Я подхожу к ним, поворачиваюсь спиной, разжимаю пальцы, и мешок падает к их ногам.
Рыжая Лидка, ты меня дразнила и два раза била, ни за что, просто я тебе подвернулась под злую руку. Но ты больше никого не обижай, Лидка. Учись в своей музыкальной школе и не злись. Вот тебе новое зимнее пальто и меховая шапка, три новых платья, ботинки и сандалии. А этот теплый, тоже новый платок твоей бабке.
Тебе, Ося, я принесла конструктор. Он большой и красивый, я его не разворачивала и до сих пор не знаю, что это такое. Ты мне однажды сказал, что из Киева приедет твой дядя и привезет конструктор. Ты его ждал, и я тоже, потому что очень хотелось увидеть конструктор. Но дядя не приехал, а я пришла. На.
Ты, Колька, получай колбасу и сало в белой тряпке. Скажи матери, чтобы заняла наш сарай, там яма в полу, как погреб, там если сало и колбаса будут лежать — надолго хватит.
А тебе, Мишка-маленький, конфеты. Бери вместе с мешком. Всем дай, ты добрый, а то не поднимешь мешок…
Я пыталась втиснуть в конце мечты радость и ликование. Все уносят дары из мешка домой, возвращаются и бегут за мной, счастливые и благодарные. Я — впереди, а за мной — они, от ворот — к сараю, от сарая — к воротам. Но мечта не соглашалась с таким финалом. Лидка, Ося, Коля и Миша-маленький не могли двинуться с места, стояли столбом, потрясенные моей добротой и любовью.
Мечта вела меня каждый вечер из детского сада к воротам покинутого двора. Мешок давил спину, сердце стучало. Прижавшись к кирпичному выступу соседнего дома, я видела иногда во дворе Кольку или Мишу-маленького. Я хотела их увидеть всех вместе, но Ося в это время делал уроки, а Лидка помогала матери, которая работала в школе уборщицей.
Однажды, когда я вот так стояла и смотрела на пустой двор, меня тронул за плечо Игнат. Я подняла голову и увидела старого, совсем незнакомого человека. У него была короткая лохматая борода, проваленные щеки и глаза Игната, черные, жгучие, под густыми бровями. Он был, наверное, страшен, но я не испугалась. Он спросил, что я здесь делаю, почему не иду домой. Я что-то ему ответила.
— Пошли, провожу тебя, — сказал Игнат, — это же такая даль, а уже темнеет.
Я не сказала ему, что живу у Люды. Я помнила, что ему не надо знать, где она живет.
Мы шли и шли, по прямой дороге, лес то обступал ее вплотную с двух сторон, а то отодвигался, и тогда справа серебрилась под луной река. Нам никто не попался навстречу, никто не обогнал. Игнат шел молча, потом, на середине пути, запел: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя…» Эту песню и я знала от начала до конца. Зимой в детском саду был праздник Пушкина, и мы разучивали его песни. Я случайно тогда услыхала, как инспектор из районо за неплотно прикрытой дверью ругала нашу заведующую:
— Какой праздник? Что вы назвали праздником! Это же сто лет, как его застрелили.
У военного городка, возле будки часового, Игнат сказал мне:
— Я тебя не знаю. Я тебя случайно встретил на дороге. А то тебя не пропустят.
Он повторил это часовому. Я не знала фамилию отчима, но знала, где находился в военном городке наш дом, и часовой пропустил меня. Я оглянулась, спина Игната уже пропала в темноте.
Мама уже давно на пенсии. И давно уже мы с ней живем в разных городах. Недавно получила от нее письмо. «Такая радость и новость, что опять вся жизнь, как живая, перед глазами. Была я в Минске, ходила в музей Отечественной войны. Повстречалась с Игнатом. Сидит на портрете с партизанами. Командиром был у них. Погиб в сорок третьем году. Ты вряд ли его помнишь, маленькая была. Хороший был человек, любил меня, а я молодая была, дурная, не любила. Хотя, с другой стороны, как полюбишь, если не любишь…»
Я не написала ей, что помню Игната. И при встрече о нем не заговорила. У матери о нем своя память, у меня — своя. Помню, как вел он меня неблизкой дорогой поздним вечером к тому месту, к которому, не будь меня рядом, и близко бы не подошел. Он уже тогда был героем. А то, что в жизни бывал и пьян, и жесток, то уж такая ему жестокая выпала любовь.
Так повелось, что наши слова об ушедших как цветы на могиле. Будто не люди ушли, а ангелы. А у них ой-ой как по-разному бывало: и трудно, и шершаво, и колюче, и неприбрано. Я помню Игната. И жизнь моя во многом сложилась так, а не иначе, потому что в детстве увидела я перед собой Игнатову любовь. Увидела и запомнила на всю жизнь, еще не понимая щедрости ее, жестокости и горя.
Василий
Мать долго была молодая. Через десять лет после войны, когда ее сверстницы на моих глазах стали старухами, мать все еще была молодой. Закручивала на затылке тугую косу, надевала по воскресеньям голубое платье с белыми пуговицами, туфли-лодочки и выходила на улицу. Подходила к соседкам, присаживалась на лавочку, слушала льстивые слова, в которых, как во всякой лести, было много неправды. «Ты, Ольга, женщина первый сорт. Тебе бы только девку свою с рук спихнуть. Сколько ж это ей еще учиться? Ты, Ольга, пара большому начальнику. Вспомнишь наши слова, придет час — вспомнишь».
Мать вечером говорила:
— Эти бабы — темный лес. Посидишь с ними и устанешь хуже, чем от работы. Замуж всё меня выдают. Говорить не о чем, вот и толкут слова, как воду в ступе.
— А ты бы пошла еще замуж?
Мать прищуривала глаз, взгляд становился подозрительным, вздыхала, обдумывала вопрос — взгляд тонул в воспоминаниях.
— Я уже была. Набывалась.
Была она родом из деревни, из крепкого деревенского двора, который сожгли при отступлении белополяки. Дед с бабкой и тремя дочерьми переселились к родным, жили в бревенчатой, стоявшей посреди огорода бане. Печь из камней, топилась по-черному, спали на высоких лавках, с которых их сгоняли в субботние дни, — приходила родня с ведрами и березовыми вениками, таскали воду, выплескивали ее на раскаленные печные камни, парились на лавках.