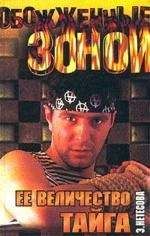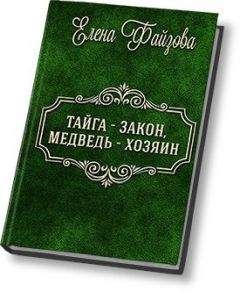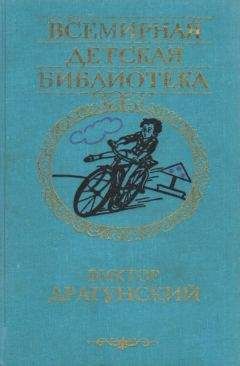Виктор Попов - Закон-тайга
— Эй, вы! — кричит Петр. — Мне наплевать на вас.
Двое впереди идут, не оборачиваясь. Набирая на перекатах силу, шумит ключ. Может, они из-за шума не слышали Петра? Но повторять ему уже не хочется. Стоят ли они того, чтобы знать даже о его ненависти…
Он — один. Он всем и всему чужой. Чужой Наташе, чужой Константину, чужой рябому, хрустящему лесу, чужой бубнящему ключу, чужой хвойному, очень прозрачному предморозному воздуху.
Чужой, лишний, неугодный. Он уже переживал такое чувство отторгнутости.
Было ему в то время чуть за четырнадцать. Возраст ломкий, в котором шалости теряют детскую невинность и становятся порой рискованными. Ребятишек уже не удовлетворяют деревянные сабли и пугачи, обиходными становятся самодельные пистолеты, в мальчишеских компаниях именуемые «поджигами». Для Петра общение с набиваемой порохом медной трубкой окончилось драматически — трубку разорвало, Петру опалило брови и ресницы. Вечером, после неудачного выстрела, в гостиной решалась Петина судьба.
Мать, уверившись, что непосредственная опасность сыну не грозит, подчеркнуто громко убеждала мужа, что «пока из этого разбойника не вырос отъявленный бандит, его надо немедленно отдать в приют». Отец возражал, что с приютом успеется, а вот насчет того, чтобы разъединить сына с улицей, надо подумать, ибо Петр не понимает человеческого отношения. Мать в конце концов согласилась — в приют, действительно, успеется. И Петя оказался в Потаповке, деревне, по понятиям матери, глухой и заброшенной — до шоссе от нее было пять километров, а до железной дороги целых восемь.
Ссылку свою Петя отбывал у сестры их домашней работницы. Для сорокалетней бездетной вдовы он был обузой не слишком обременительной и к тому же хорошо оплачиваемой. Вначале смена обстановки обрадовала. Деревня в его воображении существовала как нечто самой природой созданное для игр в казаки-разбойники, лапту, футбол и многое другое, требующее простора и желания. С простором он не ошибся — в Потаповке его хватало. С желанием оказалось сложней.
Шел сенокос, и все Петины сверстники были на лугах. В случайные вечера их появления Петя пытался кое с кем сдружиться, но тщетно. Обремененные недетскими заботами, они значительно раньше городских ребятишек проводили детство, и Петя, с его восторженным отношением к забавам, был им чужд и непонятен. Многие из них в свои четырнадцать-пятнадцать лет для солидности вставляли в речь бранные слова, не таясь взрослых, свертывали тугие цигарки. Петины шаги к сближению они принимали равнодушно и, пренебрегая городским, басовито спорили о том, скосит Матвей завтра загонку от Рябинового лога до озера Кругленького или не скосит.
Отнесись они к нему по-иному, Петя скорее всего увлекся бы их рассуждениями, заботами и до осени перекочевал бы на луга, откуда приходили эти суровые, влажно пахнущие вялой, неслежавшейся травой подростки. Но они не стремились к дружбе, и он оставил попытки сблизиться с ними.
Задами Потаповка выходила в лес. Июльская безветренная жара обтекала сосны. Из деревьев выжималась медовая живица, сочилась по щербатой коре и, скопившись в трещинах, застывала мутными, мозолистыми бугорками. В бору, километрах в трех от деревни, на речке Балашихе до коллективизации стояла Березовская мельница. Сейчас от нее остались лишь обросшие тинными бородами сваи, прорванная в нескольких местах плотина и омут, который колхозники называли Линевым.
Петю соблазнило название омута, и он целый день просидел на берегу с удочками. Лини не брали. Не брала и никакая другая рыба. Сначала Петя следил только за поплавками. Но это занятие увлекательно лишь в том случае, если поплавки хотя бы иногда подают признаки жизни. Когда же они стоят не кивая, присяжный рыболов и тот потеряет терпение. Полтора часа мертвого бесклевья утомили Петю. Он переменил место — сел ближе к струе. Но бесклевье есть бесклевье. Сбоку струи стояли сваи. До белизны обожженные солнцем, они, едва коснувшись воды, становились зелеными, еще ниже — коричневыми и стлали по течению дрожащие слизистые патлы. Еще ниже была непроглядная чернота, и казалось, что столбы бесконечны. Бесклевье, кузничная текучая жара, тоскливая, беспредельная чернота подействовали на Петю угнетающе. Он смотал лески и, не заходя к хозяйке, ушел на станцию. Вечером мать, в душе радуясь, что сына миновали все дорожные беды, убито называла его лишенцем и грозила отцовскими карами.
Да, в четырнадцать лет легко принимать устраивающие тебя решения. Ведь самые страшные последствия — моральное, на худой конец, физическое родительское воздействие. А это, в конце концов, не смертельно.
Будь возможность, Петр и теперь бы ушел. Ушел, чтобы не испытывать чувства отрешенности, отточенного, почти физически ощутимого сознания своей неприкаянности. Если бы можно!.. К несчастью, все просто лишь во сне и в детстве. После того как человек достиг совершеннолетия, обрел, как принято выражаться, самостоятельность, только тогда он полностью и познает, что значит зависимость. Она — как темный лабиринт. Чуть ослабил внимание, и вот тебе — налетел на препону.
От чего только не становится зависимым человек, обретая самостоятельность. Его действия ограничивают условности, чувство долга, ответственность служебная, ответственность моральная… в общем, пожалуй, труднее найти то, что не ограничивает и не заставляет соразмеряться со своими требованиями человека, которого стали стеснять детские короткие штанишки.
Даже от обыкновенного рюкзака и то порой становится человек зависим. Вот он тянет, тянет, тянет вниз, будто вцепился в плечи, в спину мертвой хваткой. Случайно подумав об этом мешке, Петр понял, что теперь не сможет забыть о нем. Те двое скрывались, появлялись и, в конце концов, их можно было не принимать во внимание. А вот рюкзак все время напоминает о себе.
Заплечный мешок, проложенный между спиной и остробокими пробами тонким слоем сухой травы, стал как будто существом живым и сообразительным. И сообразительность его целиком направлена против Петра. Злой, ехидный мешок, только и выжидал момента, чтобы больно резануть жесткими ремнями натертые плечи или всей тяжестью дернуться вниз, чтобы заставить Петра присесть. Он словно знал, что после каждого такого приседания Петру все трудней и трудней подниматься, а делать шаг вперед — и вовсе становится нестерпимо.
Петр уже изучил коварные приемы мешка. Он знал, когда рюкзак будет дергаться вниз, когда съезжать в сторону, а когда — и это самое неприятное — всем весом навалится на спину, потянет вперед, заставляя быстрее переставлять ноги, которые, казалось, созданы для того, чтобы тянуться за туловищем, а не нести его.
Вот начинается подъемчик. Пологий, заросший скользким, хрустким лишайником взлобок, на который при обычных обстоятельствах Петр не обратил бы внимания. Теперь же, еще издали заметив его, он стал искать глазами кружные тропки. Однако ровный, с виду гладкий взлобок, начинаясь у берега, тянулся далеко и обходить его не имело смысла. Тогда Петр стал заранее готовиться к подъему. Не доходя до пригорка, мысленно рассчитывал каждый шаг и, будто почувствовав, что рюкзак, напружинив лямки, тянет вспять, невольно наклонился вперед и сделал несколько шагов на полусогнутых ногах.
Когда до подъема оставалось совсем немного, Петр оступился и едва не упал. Рюкзак дернулся вправо, стал невыносимой кладью. Когда Петр выпрямился, рюкзак все еще тянул его вправо и вниз, заставляя покачиваться, переступать, нащупывать точку опоры.
И вдруг очень отчетливо Петр ощутил в рюкзаке живого противника, к борьбе с которым надо приложить все свои силы и смекалку. Открыв это, Петр стал вести себя с мешком, как с врагом. Скрипел зубами и, не выбирая выражений, ругался, когда мешок исподтишка строил козни, не сдерживая возбуждения, беззвучно смеялся, когда ему удавалось перехитрить. Теперь уже Петр не шагал широко, не растрачивал силы с показной, неразумной удалью. Он двигался расчетливо: невеским, коротким шагом. Такая походка позволяла нащупывать невидимые в траве и лишайнике выбоины. Мягко погружая в них ступню, Петр думал о том, что он обманул мешок, и тому уже не удается дернуть его книзу. Если же выбоина была настолько велика, что ноги в нее не погружались, а проваливались и мешок колотил в спину, Петр утешал себя тем, что в эту выбоину так же попали ноги и тех двух, и спине Константина досталось от мешка.
Вспомнив о Константине и Наташе, он неожиданно почувствовал, что перекипает. Ему показалось, что в нем рождается даже какое-то всепрощенческое умиротворение, что он сейчас способен сравнивать и анализировать сложившиеся отношения, как человек незаинтересованный. И Константина и себя он разбирал по косточкам, складывая в разные кучки его и свои положительные и отрицательные качества. И каждый раз получалось, что перевес, хотя и незначительный, был на стороне Петра. Но ведь Наташа выбрала не его. Женщины, женщины! Никогда-то они не могут быть объективны, никогда не подумают, прежде чем сделать выбор. Поэтому, наверное, так много браков несчастных и неразумных, поэтому так часто женщины вразумляются лишь после основательного любовного похмелья.