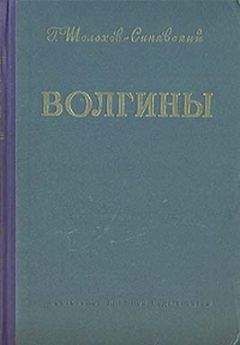Герогий Шолохов-Синявский - Горький мед
Но навязчивее всего владел моими мыслями Данко. Он высоко держал собственное, вырванное из груди, пламенеющее, как факел, сердце и указывал людям путь к добру кг свободе. Он как бы сулил разгадку всего, чего я еще не понимал, но часто слышал от наивных правдоискателей, забредавших порой в наш хутор, что вызревало во мне самом, будоражило и звало куда-то, оставаясь в глубине своей пока неясным и непостижимым.
Сам облик Горького преображался в легендарный, романтический образ такого же искателя истины, красоты и справедливости. Я видел в нем то Африкана Денисовича Коршунова, то студента-волчьебилетника Куприянова, когда-то посветившего мне из тьмы захолустного степного бытия первыми лучами знания.
Часто, оставаясь наедине с самим собой, шагая по степи, я начинал раздельно выкрикивать:
— «Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный!..»
Железный ритм горьковского стихотворения в прозе словно раскачивал меня на гремучих седых волнах. Я шел, размахивая руками в такт этому ритму, упоенный звучанием собственного голоса, и мне казалось, сам я становлюсь бесстрашной птицей и лечу над степным простором, охваченный жарким вдохновением.
Что это было за вдохновение, куда звал меня Буревестник, я не знал, но мне было хорошо и радостно. Я чувствовал в себе силу и дерзкое желание схватиться с любым врагом.
Но никто не вызывал меня на бой, жизнь в хуторе текла медленно и однообразно, придавленная заботами о куске хлеба и страхом перед черным призраком войны. А я все ждал, не зная чего.
Когда я вновь зашел к Софье Степановне, она спросила:
— Ну как? Понравился тебе Горький?
— Очень понравился…
— Ну, слава богу, — тоже очень просто, как-то по-бабьи, обрадовалась моему ответу Софья Степановна. — У меня еще кое-что есть для тебя. Этот томик я тебе дарю, а остальные будешь по прочтении мне возвращать. Вот тебе «Фома Гордеев». Это роман. Если покажется скучным — отложи пока, не читай. Горького надо читать вдумчиво, проходя его, как учебник.
«Фому Гордеева» я все-таки прочитал, но роман и вправду показался мне не таким ошеломляюще красочным, как рассказы. Я жадно набрасывался на каждый новый неизвестный мне рассказ Горького, прочитывал его залпом. Но «Жизнь Матвея Кожемякина», как мне и советовала Софья Степановна, я все-таки «отложил». Эту окуровскую летопись я прочитал значительно позже…
Так шло мое приобщение к большой литературе.
Вслед за первым открытием последовали другие. Я наконец попал на один из любительских спектаклей хуторского драмкружка и сразу был пленен новым для меня искусством.
Конечно, я не мог еще судить, хорошо или плохо играли любители, я только сидел и, разинув рот, смотрел на сцену. Вначале даже смысл слов, произносимых актерами, не доходил до меня.
Играли «Месяц в деревне». Играли, наверное, не очень хорошо, декорации были нарисованы грубо, наспех самими любителями; зрители сидели на шатких скамьях в неуютном каменном, похожем на сарай здании, когда-то лет двадцать назад, построенном на средства местного жителя, ростовского журналиста Рудова, работавшего в газете «Приазовский край», автора очерков «По низовьям Дона».
Однако после спектакля я ушел в полном смятении чувств, как и после чтения хорошей книги, и даже стал мечтать, как бы самому сыграть роль. Правда, меня пугала сцена, а освещенная керосиновыми лампами рампа, и зрительный зал, откуда устремляются на актеров сотни внимательных глаз, вселяли ужас.
Как-то днем я попробовал выйти на сцену и взглянуть оттуда в пустой темный зал и почувствовал, как кровь леденеет в жилах. Но Софья Степановна не оставляла мысли сделать и меня служителем театральных подмостков. Однажды она заставила прочитать сцену из пьесы Островского. Я прочитал с выражением, подражая интонации воображаемой личности, даже постарался состроить подобающую гримасу. Софья Степановна умиленно захлопала в ладоши.
— О, да у тебя получается недурно. Ты сможешь выступать. Надо попробовать на репетиции.
Я согласился, заранее холодея от страха. Предчувствия меня не обманули: на репетиции я молчал, как в рот воды набрал, а потом едва промямлил несколько фраз. А выглядел я, наверное, мокрым петушком в своих коротких брючитках с пузырями и латками на коленях, в куцей, заштопанной во многих местах рубашке.
Все, в том числе доморощенный режиссер, местный парикмахер и превосходный актер-любитель Ремезов, очень добродушно надо мной посмеялись, но моя наставница меня защитила:
— Он просто очень застенчив. До девяти лет мальчик рос в степи. Но если бы вы послушали, как он читал роль у меня дома! А как декламировал «Ивана Сусанина» на торжественном акте в школе — вы бы ахнули!
Но никто не собирался «ахать» при виде столь крупного сценического дарования. От репетиций меня все-таки отстранили.
Огорченный первой неудачей, я стал отдаляться от драматического кружка.
Работа с отцом в окрестных садах и на чужих пасеках ускорила этот разрыв. Мое недолгое увлечение театром стало быстро охладевать.
В мартовское слякотное утро, когда хлестал пронизывающий дождь с мокрым снегом и так печальны были земля и небо, умер Андроник Иванович.
«Низовая» школа стояла рядом с церковью. Как раз в это время, сзывая говельщиков, звонили к ранней великопостной заутрене. Жиденькое блямканье малого колокола (в большой благовестили только по воскресеньям и большим праздникам) отсчитывало последние удары сердца умирающего учителя.
Грустно покачивая головой с уложенными на ней пепельными, уже начавшими седеть косами, Софья Степановна сказала мне о смерти «бурсака»:
— Умер наш Долбежин… Помнишь такого в бурсе Помяловского? Розог наш Андроник Иванович не применял, но ремень у него был покрепче розги. Линейкой бил по пальцам так, что ногти лопались. А вместо карцера — холодный класс, и не только без обеда оставлял детей, но и без воды… Изувер был, царствие ему небесное, а вот жалко…
Я рассказал о том, как справедлив и добр был ко мне Спиваков, как обучал на пасеке переплетному делу, и не заметил, что проговорился и выдал его тайну.
Софья Степановна изумленно раскрыла глаза, но тут же нахмурилась.
— Неужели ты это слышал? Боже! Каким жестоким делает человека жизнь не только к другим, но и к самому себе? Может, Андроник был бы и добрым и умным, если бы не вколотили в него ожесточенность и злобу в семинарии. Его били, сажали в карцер, и он бил… Никому больше не рассказывай, что он пил эту мерзость. Ты все-таки приходи завтра на похороны… Придешь? Ученики будут.
Я сказал, что приду.
Пасмурный, такой же слезливый, тоскливый день. Вперемежку с мокрым снегом моросит мелкий дождь. Провожать учителя в последний путь пришли два или три учителя, несколько старушек из местной богадельни, десятка два школьников, жена Андроника Ивановича — Пелагея Антоновна, Софья Степановна…
Всю дорогу от школы до кладбища Софья Степановна вела под руку плачущую Пелагею Антоновну и утешала ее.
Хоронили Андроника Ивановича без певчих, без всякой торжественности. Так хоронили, наверное, тысячи сельских безвестных учителей. Отпевал его отец Александр Китайский, с которым Андронику Ивановичу по-соседски приходилось и выпивать и перекидываться в картишки.
Псаломщик Анатолий, никогда не бывавший трезвым, торопливо гнусавил «вечную память», бормотал заупокойные молитвы.
Бесшумно ложились на землю мокрые снежинки и тут же таяли, противно чавкала под ногами грязь, низко нависало над хутором ватное небо.
Я брел за гробом и все время думал: как хорошо мы с Андроником Ивановичем жили среди степного приволья! Каждый человек, если он знает какое-нибудь хорошее дело, должен передать его другому. Так и поступил Андроник Иванович: он научил меня первому полезному ремеслу. И за это я простил ему многое…
Возвращались с похорон. Я поравнялся с переулком, в котором жили Рыбины, и вдруг увидел, как из-за угла вышел Трофим Господинкин. На правом плече он нес большую лозовую корзину. Рядом с Трушей легко ступала высокая, закутанная шалью до самых глаз, очень ладная молодая женщина. Во всей ее непринужденной стати и в том, как горделиво держала она голову, было что-то до щемящей грусти знакомое.
Увидев меня, Труша остановился, помахал рукой:
— Здорово, Ёрка! Ты досе еще никуда не уехал?
— А куда уезжать, — пожал я плечами и кинул взгляд на Трушину спутницу: из-под шали, треугольником надвинутой на лоб, выглядывали знакомые, светло-синие девичьи глаза. Они отличались одной особенностью: в них всегда переливалась ласкающая, манящая нежность и что-то непередаваемо озорное, женственное и вместе с тем печальное. Домнушка! Наша хуторская Мальва! Я невольно сравнил ее с горьковской героиней. Она показалась мне красивее, чем когда-либо.