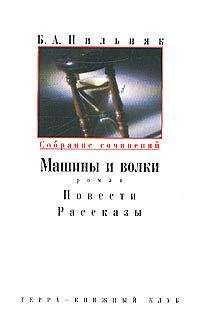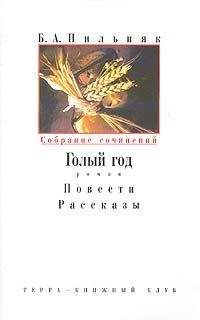Борис Пильняк - Том 2. Машины и волки
Примечание в разговорах, анекдотическое:
Расчисловы горы.
— А ты куда идешь?
— В Расчислово.
— Ну, тогда иди.
— А что?
— Не пущаем мы зато селом комунских.
— А что?
— Не пущают они наше стадо своем выгоном. Абратно продовольствие прижимають. Ну, мы зато и не пущаем.
Разговор этот у околицы, пришел чужой, чуждый человек, старик. У каждого еврея извечное в глазах, то, что оставила красная нить иудейства, сшившая человечество. — Еще Иисус Христос сказал: «Не единым хлебом сыт будешь», — но и приварком. Человек, еврей, сионист, — голодающий, — в соломенной шляпе, в ситцевом пиджачке с манишкой из целлюлоида, с тросточкой и корзинкой, — и с глазами, как третий век до рождества Христова, — пришел к Андрею Меринову в Расчиславовы горы. Те дни были днями юдолей июля, когда села Рязань на картошку, — и был праздник. На завалинке сидели мужики, беседовали.
— По разверстке с нас брали хучь — девяносто, то ись, пудов, а теперь, дивствительно, сто двадцать, по налогу, то ись. Опять жа — шерсть, масло, яйца, к примеру. По нас хучь бы разверстка зато. Один омман. Опять же ране брали, хфакт, с пяти домов богатеющих. Теперь же хфакт — у меня восемь ядаков, то ись, а он сам — друг-ядак, а все одно — плати с наделу.
— А разверстку по ядакам, то ись, не хотят мужички, к примеру. Как жили, так и проживем, то ись…
Андрей сказал матери:
— А ты что стоишь, глаза выпучила? Самовар поставила — и проваливай к соседке!
Нету казенки, нету вина, —
Пей политуру, ребята, до дна!..
В избе все стены были в плакатах — в дезертирах, генералах и буржуях, по полу коврики, под образами лампада. Андрей — в лаковых сапогах, «при часах», пахнул, как Нил Нилович Тышко. Уходил из избы, вернулся с «вечинкой», с чернилами и бумагой, — из кармана вынул бутылицу. — Дал прочитать бумажку:
«Дорогой Андрюша я про вас скучилась, выходи ко мне на свидание».
— Выпей для храбрости. Хороший — самогон. А потом пиши мне письмо, покрасивши. Вот. — Пиши. Пиши, что я об ней сохну, но выйтить никак не могу. А еще пиши Дуньке
Климановой, чтобы выходила гулять… А картошку — устроим! Нынче у нас в союзе молодежи спиктакиль, приставление, я секретарь, — опосля и устроим у комунских, у братов. Другие не продадут — сами конятник подмешивают.
По небу стрижи чертились — по-осеннему — к вечеру, зной же спадал по-июньски, по всей деревне петухи кричали и — опять по-осеннему — резко, одиноко, сейчас же за задами ворковала горлинка. Через улицу, в амбаре жевала рожь ручная мельница, сберегала четырехфунтовки, храпела на всю деревню. А сумерки нашли на Расчисловы горы зеленой мутью июня, луна поднялась медленно: горожане, исковеркавшие ночи на два с половиной часа вперед, забыли ночи. Вечером в школе («э-эх, школа земская стояла, э-эх, стояла да упала… Собрался тут сельский сход, — обсуждали целый год!..») — вечером в школе, под вывеской —
«Расчиславский культурно-просветительный кружок»
был спектакль. Человека, еврея, сиониста с глазами, как век, — по недоразумению, разумеется, — Андрей притащил с собой, и он был единственный старик на спектакле, сошедший за молодого, ибо был брит. В парнях, девках, подростках, набитых, как в теплушке на железной дороге, — в мясе тел, в буферах женских — деревенских грудей, в писке, визге, гармошке, в сизом дыме махорки, в запахах пота, махорки, помады, пудры, даже йодоформа — было святочно, как на святках, — и на партах сцены, рядом с хромой Росчиславской, Марьей Юрьевной, стоял председатель — в белых лосинах и в сандалиях.
— А сосалу-макалу, советскому голубчику, Андрюше Меринову, — наше вам!..
— Сами сосал-макалки. Вот я вас — того-с! — и присвистнул.
— Где уж нам уж — мы уж так уж!
— Больно ты яровитый!
Председатель в лосинах — что есть мочи — крикнул:
— Товарищи! Сианц сичас начинается! Прошу потише и притушить лампы в зале! —
Его перебила хромая Марья Росчиславская, крикнула: Товарищи! В пьесе выступает офицер с золотыми погонами. Золотопогонники теперь отменены, — это только по пьесе!
В притихшем мраке шептали:
— Андрея, прошу вас, — не щепись зато, — Андрюшка жа!..
На партах играли без суфлера, заменяли игрой отмененные курьерские, не костюмы — а опять святочный маскарад.
А среди пьесы — шум, треск! — с парты упала лампа. Закричали, загамили, завыли, в разбитое окно потянуло землей, земным отдыхом. Лампу потушили.
Председатель в лосинах спросил:
— Товарищи! Упала лампа, спрашиваю вас, начинать приставление с того места, где пожар, или обратно сначала?!
— Вали сызнова!! О-о-о! А-а-а!..
Человек, еврей, сионист с глазами, как третье столетие до рождества Христова, — ушел потихоньку со спектакля, уюркнув от Андрея. — Мериниха, Андреева мать, лежала на печи, — гость лег на лавке. Лампадка горела тускло, пели на деревне петухи.
— Спишь? — спросила басом Мериниха.
— Нет.
— Что же будет, объясни ты, Христа-ради.
— А что?
— Я уж не говорю про житье, — голод зато и голод, недостача, Бог наслал!.. С народом-то что исделалось! — объясни, ты образованный. Ты смотри — Андрей меня — старуху, — матку! — по зубам шваркает чем ни попадя, ханжу бузует, девок портит… Я, правда, спуску не даю, — ну, а другие?.. А девки?.. — ни единой-разъединой целой нет, непорченой, — только и делов, что по авинам с парнями шмурыгать… Да что девки? — они малоумны, — бабы, мужики взбеленились, по третьему разу за зиму женятся, — и все дуром, и все дуром зато!.. Амман, сикуляция, денной грабеж… Царя отменили — так малоумный был. Ну, а Бога почто отменили? — Объясни, Христа-ради, ты образованный!..
Старуха ноги с печи свесила, сидела лохматая, страшная… А глаза — голодные — были еще в дорождестве Христовом, — лежать на скамье, следить за тараканом, ничего не думать — думать: — картошки бы!..
— Молчишь зато? — я тебе объясню. Ан-чи-христ пришел! Вот что! Ан-чи-христ! Конец свету.
…А поздно ночью ввалился в избу Андрей. Зашумел, свистнул.
— Вставай! Идем.
— Куда?
— Куда — куда? — в комуню зато!
Прошли оврагом — буераком Бирючим — около поблескивал ручей, а тумана не было, роса села холодная, посырел ситцевый костюмчик, небо было в клочьях деревьев, свисших вверху.
— Забирай по днищу. Хоша не караулють, а може стерегуть. Днесь одного убили, — се-таки, городского. Курить тоже нельзя… А Дунька Климанова — выходила, огулялись!.. Сичас придем.
Контрабандисты: если поймают — изобьют. Где и как тут в оврагах черт ногу сломал? — Посырел в росе костюмчик. Баня в коммуне стала к обрыву задом, — уперлись в баню. Деревья спутали расстояния, спятились, — небо вырвалось из деревьев огромным платом, в звездах и — где-то — с лиловой полоской рассвета. Усадьба стояла во мраке. Андрей знакомой тропинкой пошел ко крайнему оконцу бани, постучал в оконце, еще раз, еще.
Из избы вышел человек, Логин Меринов, секретарь коммуны «Крестьянин», не мужик, а коряга из пруда, с валенками на двух коряжинах снизу.
— Ты, Андрей?
— Я, браток, — выноси.
— А еще кто?
— Свои.
— Ну, сичас. Еще вечор все отвез, три мешка картошки, пуд пшена, масла чухонского полпуда. Гость-то московский?
— Нет, из города, рязанский. Получай манету, все верно, как говорили.
— Ну, знакомы будем. А желтых тыщев нету? У нас мужики очень желтые обожают. Когда надо, загляни, господин. Знакомы будем. Конешно, запрещают, но нам нас…
На обратном пути, в овраге, на своей стороне сели отдохнуть, закурили.
— Слышь, а слышь суды! Соломон Ливоныч, что я тебе хочу сказать… Я тебе по-товарищески, по своей цене, показал, где… Что я тебе скажу… Купи мне лисипед! — Купи мне, пожалуйста, лисипед. До страсти мне хочется. Купи, пожалуйста, а то с меня три шкуры сдерут в городу. Может, где по знакомству, — скажи, — за картошку, может, за масло… Уж очень до страсти мне хочется лисипед!.. Купи, пожалуйста…
А избы на деревне стояли по-ночному. Въелись в землю, вкопались, с картошкой, на картошке. Луна шла к западу, поблескивала мертво в соломе крыш. Глаза у человека — тысячами лет!
Леший прокричал в лесу: гу-ву-уз!..
…И каждую весну цветут на Расчисловых горах яблони и будут цвести, пока есть земля…
Раздел книги основной, учин во хребте
— Россия, влево!
— Россия, марш!
— Россия, рысью!
— Кааарррьером, Ррросссия!
Машина, из главы «О волчьей сыти»
…Тракт стар, зовут тракт Астраханским. В голубой дали верст — с тракта, с Расчисловых гор, со Щурова от лесниковой избы, где зимует Машуха-табунщица, — в голубой дали верст черный возникает заводской дым — Коломзавода, гомзы, стали и бетона, — и красные — страшные горят оттуда — ночами — в тумане — огни, чтоб пугать людей и филинов, и — волков…