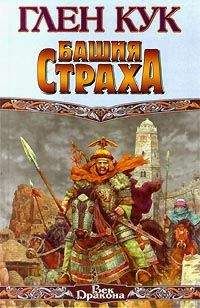Виктор Лесков - Под крылом - океан.
— Повнимательней! Сближайтесь! — предупредили с корабля. — Азимут… Дальность… Сошлись в групповую…
И «противник» тоже готовился к отражению атаки истребителей.
Миловидов увидел их впереди себя в разрыве облаков. Они шли на встречных курсах значительно ниже, так что издали и не было заметно их движения. Будто плашмя лежали два белокартонных силуэта на сером глянце стола.
— Семьсот первый, впереди наблюдаешь? Ниже под курсовым двадцать!
— Наблюдаю.
Одного взгляда было достаточно Миловидову, чтобы определить по конфигурации, что это были за самолеты.
— «Ласточки»! — сказал он, не называя позывного Глебова: и так поймет.
— Свои! — также без позывного ответил ведущий, Но бой, хоть и учебный, оставался боем.
— Семьсот первый! Цель вижу! Прошу работу! — передал Глебов повеселевшим голосом.
— Разрешаю визуальный контакт! — в тон ему ответил Вязничев.
— Понял!
Глебов перешел на пикирование с правым креном. Вслед за ним, не разрывая строя, снижался Миловидов. «Ласточки» косо скользили в боковой раме фонаря, плаврю и бесшумно, будто их протягивали вперед невидимой нитью.
Они разошлись правыми бортами, а через несколько секунд уже шли одним курсом. Глебов увеличил скорость, легко сократил разделявшую самолеты дистанцию.
Глебов вышел в левый пеленг к ведущему пары, Миловидов стал в правый пеленг с ведомым.
Они шли в плотном строю, так что хорошо было видно лица летчиков. Экипаж «ласточки» рад был этой встрече над океаном. Миловидову улыбались с блистеров кормовой кабины, в приветствии вскинули руки пилоты из передней кабины.
Обнять бы их, расцеловать каждого, но вместо этого Миловидов должен был выдерживать безопасный интервал полета.
Русская натура: правый пилот ведомого экипажа тут же извлек откуда-то снизу ярко-малиновый термос. Отвинтил сверкающую крышку, что-то налил в нее. «Будешь?» — приподнял он крышку, будто предлагая тост за встречу.
Миловидов провел ладонью по шее, показал в сторону корабля: своего хватает!
Летчик заулыбался, закивал: понял! понял!
В сомкнутом едином строю, взрывая небо громовой волной, самолеты прошли над крейсером. Рядом с «ласточками» палубные самолеты казались игрушечными.
«Ласточки», покачивая крыльями, приветствовали и прощались с экипажем корабля, разворачиваясь на курс к родным берегам. «Пойдем с нами!» — позвал за собой правый пилот. «Нет, мне туда!» — показал Миловидов себе за плечо.
— Ноль тридцать пятый, возвращаемся!
Миловидов еще раз вскинул руку, теперь уже прощаясь с «ласточкой», перевел самолет в набор высоты, занимая место ведомого в паре с Глебовым.
— Семьсот первый! Возвращаемся! Заход на посадку!
— Семьсот первый, паре роспуск! Разрешаю посадку с ходу.
Впереди по курсу, будто на крыльях полетной палубы, вспенивал форштевнем океанскую зыбь родной крейсер. Плоскость посадочных площадок казалась с высоты полета спичечным коробком, затерявшимся в зыби волн.
После посадки пары стишилось над океаном — короткие минуты перед очередной волной громовых раскатов. Светило солнце, плыли одинокие облака, небо было похоже на высокое зеркало, в котором отражалась васильковая синь тихого озера с медлительными парусами прогулочных яхт. Мир жил, радовался, благоухал, но он, как и все живое, нуждался в защите, в доброй, созидательной, справедливой силе.
И впервые за время плавания майор Миловидов отметил про себя, что притяжение полетной палубы нисколько не меньше притяжения земли.
С высоты полета
1
Эх, не вылетать бы совсем в такой вечер! Это была пора летучего, едва уловимого межсезонья, когда зима больше не страшна, сполна взяла свое, отбушевала. Не. сегодня завтра оживет солнце, смахнет с сиротливых полей выветрившийся, пожелтевший снег, и зазвенит все кругом, заиграют солнечные блики, качнется, переступая на голой ветке, скворец-перезимок.
Майор Игнатьев стоял у окна прокуренной каптерки и молча смотрел на падавший в развале света снег. Похоже, зима давала свой прощальный бал. В затишье снежинки казались крылатыми, долго кружились перед приземлением, словно выбирая себе место. Но начнешь взлетать — устремятся они белыми молниями в лобовое стекло, вытянутся длинными стрелами в луче прожектора, и ничего впереди не увидишь.
А взлетный курс держать по дальним ориентирам!
Ладно, черт с ним, взлететь с горем пополам еще можно. Все-таки ты на земле, чувствуешь ее, родимую, не уйдет она из-под тебя неожиданно. А садиться как? На посадке смотреть надо, ловить сантиметры, но попробуй поймай их с завязанными, считай, глазами!
И полет-то пустяковый — в «зону»: крутнуть над деревенькой — на карте желтый, с копейку, кружок — пару виражей и через полчасика вернуться домой. Но ведь взлетать и садиться все равно надо. Простейший полет, если бы не этот снег, если бы не завтра Восьмое марта!
Накануне праздника тренировочные полеты обычно закрывали. Мало ли что может случиться! А тут командиром полка пришел молодой «академик» и поломал традицию. Летчики ходили недовольными: пусть ничего страшного не произойдет, всего-то сядет экипаж на запасной аэродром, но останутся семьи без мужчин. Какой тогда праздник, тем более женский день?
— Посадили бы его самого на запасном! — Это пожелание Игнатьева относилось к уже взлетевшему командиру полка. Правда, тот взлетал, когда снежок только начинался. А вернется часиков через десять — к тому времени снег уже может пройти.
Каким-то образом стало известно, что старший начальник из высокого штаба, прежде чем разрешить полеты, заколебался: метеоролог давал ухудшение погоды. Но командир полка настоял на своем.
А через два часа после начала полетов пошел снег. Звонить генералу и отрабатывать решение назад — исключено. «Ты что, — скажет, — полком командуешь или голову мне морочишь? Отряда тебе и то много!» И пока летали. А снег все усиливался.
— Присылают сюда всяких ухарей звезды хватать! — Голос у Игнатьева гулкий, прямо-таки маршальский, а с виду ничего богатырского: худощав, немного выше среднего роста. Меховая куртка сидит на нем с запасом, еще одного такого застегнуть хватит. Не ахти какая сила у командира, а лайнер водит весом в десятки тонн.
Красноватая лампочка под низким потолком тускло освещала сидевший за столом экипаж. Перед каждым — сумка с летной экипировкой: шлемофон, кислородная маска, перчатки.
Летчики ждали, когда заправят самолет топливом, почти все курили. Слушая командира, молча соглашались с ним: «Да, лучше бы, конечно, сейчас дома сидеть!»
Но всерьез никто, пожалуй, не принимал беспокойства Игнатьева. За столом шел матч престижа между штурманской группой и «кормой». Экипажа хватало на команду в домино, но второй летчик отказался играть, и таким образом пилотский дуэт распался. «Корму» представляли два прапорщика. Их кабины находились в хвосте самолета, где летали «со свистом задом наперед». Но в домино они явно одолевали впередсмотрящих. Свободная пара стояла за спинами игроков и терпеливо ждала своей очереди.
— Бокс! — с подъемом подавал команду мешать костяшки веселый, разбитной прапорщик Махалов. — Левой, левой, энергичней!
Капитану Иванюку — штурману-навигатору такое отступление от субординации было явно не по душе. Но что поделаешь — игра! Хоть и не очень спортивная и не включена в олимпийскую программу, но все же игра миллионов. Костя Иванюк делал вид, что не замечает торжества Махалова, и допускал тактическую ошибку: приземистому, могучему в плечах штурману достаточно было лишь взглянуть в сторону стрелка, чтобы прервать его на полуслове. Твердым взглядом отличался Иванюк: зрачки наполовину уходили под веки, и смотрел он всегда будто из-под бровей, с какой-то, казалось, необъяснимой холодной жестокостью. Однако на самом деле за всю свою жизнь Костя и мухи не обидел. А рыжий Махалов был легок и проворен, как челнок. Поговаривали, что, прежде чем выйти из дому, он справлялся на метеостанции о направлении и скорости ветра: в сильный — не рисковал отправляться на аэродром своим ходом: или унесет в обратную сторону, или пронесет мимо. Оно и по нему видно — только и умеет смеяться да быстро бегать. От смеха вон даже глаза стали раскосыми, как у зайца. А что быстро бегает — это хорошо, такой человек в экипаже просто незаменим.
Капитан Иванюк, помешивая костяшки с демонстративным безразличием, все внимание, казалось, сосредоточил на озабоченном лице командира. Заметил, стараясь попасть ему в тон:
— Что еще интересно, Александр Иванович: они приходят и уходят, а мы остаемся. Но сейчас у нас командир — голова, с «верхним» образованием.
— Не надо быть отличным командиром полка — будь ты хорошим председателем колхоза. Ничего больше не надо! — Игнатьев отошел от окна, повернулся к своим орлам, и сразу пропало впечатление его тщедушности. Другой человек перед ними: сильный, мужественный, решительный. Не сразу и поймешь, что такая перемена — от непропорционально большого, с крупными чертами лица. В молодости Александр Иванович походил, наверное, на античного воина: высокий, поджатый с висков лоб, выступающий вперед подбородок. Но самым выразительным был крутой излом бровей, почти вертикально сходившихся к переносице.