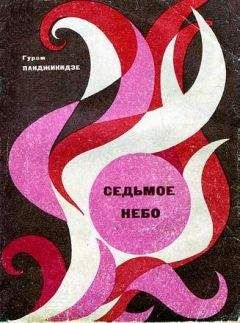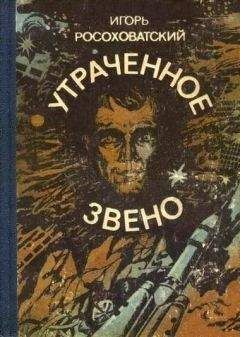Харий Галинь - Повести писателей Латвии
— Ну, что молчишь? — спросил я Дзидру. Она зарылась лицом в пустые мешки, хотя в темноте я все равно ничего не видел. — Ну-ка, взгляни мне в глаза!
Но она не послушалась, наоборот, натянула на голову еще один мешок.
— Я кому говорю? — сказал я так грозно, как только мог.
Дзидра по-прежнему не отвечала.
И тут меня охватил гнев. Красные круги поплыли перед глазами, а в такие моменты — это я хорошо знаю — я за себя не ответчик, могу наделать всякого.
Я сорвал мешок с ее головы, правой рукой схватил ее за волосы и приподнял голову.
— Гляди в глаза!
А когда она и на этот раз отвела глаза, я левой рукой дал ей затрещину и отпустил.
И Дзидра — вот уж чего я не ожидал! — тихо шепнула: «Спасибо», — и разревелась, как отшлепанный ребенок, — Дзидра, еще совсем недавно уверявшая, что много лет не могла выжать ни слезинки из своих фар. Я обнял ее, стиснул, целовал в мокрые щеки и бессвязно бормотал:
— Прости… Я зверь… Вот я пью твои слезы, теперь я твой на веки вечные. Я твой раб, счастливая… Как я завидую тебе… Ты все-таки можешь еще плакать. Счастливая… Знаешь, я даже на похороны боюсь ходить. Понимаешь, я ведь тоже не могу плакать. Надо плакать, а из меня вместо слез рвется смех. Слышал ведь, как всего какую-нибудь неделю назад невестка зудела на старуху: «Путается под ногами, бог ее не приберет, семь лет смерти задолжала, у детей хлеб отбирает!» И вот она же на кладбище вопит, словно ее режут: «Мамочка милая, да зачем же ты нас покинула! Ты ли не была сыта, у тебя ли своего угла не было, за тобой ли не ходили, тебя ли не любили!» Как могут люди притворяться перед лицом смерти? Сколько я ни навидался крови, но до сих пор гнетет меня бессмысленность смерти. Именно бессмысленность. Когда столько молодых погибло зазря, проливать слезы по старухе, умершей своей смертью!.. Я бегу с кладбищ, едва сдерживая смех, — боюсь, как бы не забросали камнями. Милая, хорошая, плачь! Я напьюсь твоих слез и, может быть, тоже смогу заплакать. Ты ведь знаешь, как ужасно, когда человек не может плакать!
Но Дзидра больше не плакала. Подняв голову, она смотрела на меня сухими глазами.
— Слушай, девочка, — все не мог успокоиться я. — Тебе случалось видеть на море подстреленную чайку? Мне приходилось. Чайка сотни раз пытается взлететь, но никак не может оторваться от воды. Не может. Тогда она складывает крылья и лежит на воде, как мертвая. Лежит, а волна колышет ее, и морская вода омывает рану. Назавтра, глядишь, чайка уже может пролететь десяток метров. И, раз может, она их пролетает. Потом опять отдыхает, вверившись морской волне, позволяет соленой воде залечивать рану. И вот уже летит дальше, и так — пока не достигнет гнезда или не погибнет. Глупая птица, с приближением бури она летит на сушу. Но мы же люди! Жизнь надломила нам крылья, а может, и подстрелила нас. От времени, когда я подарил тебе те несчастные тапки, в моей памяти остались два запаха: крови и сивухи. Порой трудно было понять, кто, за что и почему убит, и люди пили, как проклятые, чтобы хоть ненадолго перебить запах крови. Мы оба, совсем как чайки, уплыли из моря крови и самогона, приплыли сюда, к своему гнезду на мешках. Чего тебе еще? Если у меня будет кусок хлеба, он будет и у тебя. А ты — прослышала, что любовью можно заработать! Глупышка моя!
И я крепко, крепко поцеловал ее, чтобы после этого забыться наконец беспокойным, бредовым сном.
Я шел по росистой траве навстречу восходящему солнцу. Роса обжигала, трава была выше пояса, и временами я нырял в нее, как в озеро. Но сверкающие капли росы указывали путь. Вдруг посветлело, трава расступилась, и впереди, на поляне, озаренная кровавым светом, показалась Нора. Моя Нора.
Лучше, о губах мечтая,
Так и не коснуться их…
Только что у нее за странный наряд? На плечах отсвечивала багрянцем мохнатая звериная шкура, вокруг бедер была обернута другая, цветом чуть потемнее. Грудь обнажена. Грива волос ниспадала до пояса, а надо лбом в них сверкала золотая звездочка, как у жрицы богини Ашторет из учебника истории.
Она улыбнулась и протянула ко мне руки.
— Милый, наконец-то ты пришел. Почему тебя не было так долго?
Еще мгновение, и мы — пусть и во сне — поцеловались бы по-настоящему.
Внезапно из зарослей травы высыпали совершенно голые дикари, вооруженные суковатыми дубинами, и с непонятными, торжествующими возгласами унесли мою Нору.
А я, столь же неожиданно, увидел, что иду в носках, в дырявых носках по замерзшей земле, и руки мои, заложенные на затылок, скручены телефонным проводом. На краю оврага тропинка круто поворачивала — и я как был, со связанными руками, нырнул в кусты, как когда-то нырял в порту с мола.
Раздались выстрелы. В меня ли целились конвоиры? Или то стреляли в них мои друзья, которые должны были поджидать в этих местах меня и то сообщение, что я нес им в своей памяти?
Выстрелы. Осколок кирпича падает справа, другой — слева. Не пошевелился — значит, остался жив. «Echtes Kerl! Молодец!» — И к ногам падает сигарета, кто-то даже вежливо дает прикурить. Когда ром и сивуха ударяют господам офицерам в голову, им нравится позабавиться с мелким воришкой, чья попытка «организовать» что-нибудь для своего пропитания завершилась неудачей.
А вот тут уже не шутки. Яма устлана хвоей, в лицо глядят стволы шмайсеров. Кто-то справа от меня падает на колени: «Мама!», кто-то падает на колени слева: «Мамочка!», а я стою и думаю: удастся ли заметить миг, когда жизнь переходит в смерть?
— Komm heraus!
Под ложечкой у меня как свинец налит, ноги словно ватные, но, неизвестно почему, я пытаюсь идти строевым шагом. «Смерть надо приветствовать еще усерднее, чем самого генерала», — говорил мне когда-то отец, бывший латышский стрелок.
— Почему не стал на колени?
— Грязно. — Не знаю, можно ли было ответить глупее. Но мои слова, наверное, вовсе не кажутся глупыми, потому что меня тут же спрашивают:
— Стрелять умеешь?
Какой же мальчишка не умеет стрелять!
— Держи пистолет. Пристрели тех двоих плакс.
— Я в товарищей не стреляю.
— Какие они тебе товарищи! Они — на коленях, ты — на ногах.
— Не буду.
— Становись на колени!
— Грязно. Испачкаю штаны. Ведьмы в аду не станут танцевать со мной…
…На снегу, закопченном термитными снарядами, зеленеют березы, а на суку развесистой, цветущей черемухи — большая черная ягода: моя Нора.
…Я проснулся оттого, что Дзидра обняла меня.
— Скажи, ты очень любил Нору, мою первую пионервожатую? Правда, вступать в пионеры мне запретила мать: подальше от политики! Я и сейчас еще не комсомолка.
— Откуда тебе знать, что я любил Нору, если я и сам этого по-настоящему не знаю?
— Ты во сне много раз называл ее имя. Как не стыдно! Спать с Дзидрой — и звать Нору!
— А ты еще уверяла, что я хороший, — попытался я улыбнуться, но тут же стал серьезным. — Милая девушка, запомни раз навсегда: никогда не завидуй мертвым! Никто ведь не знает, каково им. Лучше, чем нам, или хуже. Никогда не ревнуй к ним!
Потом, подперев подбородок ладонями, я спросил:
— Так какой же была Нора, по-твоему?
— Чертовски красивой, — сразу же отозвалась Дзидра, — куда мне с нею равняться! Только…
— Говори смело!
— Мне такая красота не по вкусу. Холодная, безразличная. Да ладно… Зато стихи читать она умела! Если я люблю читать стихи, если вообще пошла на филологический, то это ее заслуга. И еще она учила нас танцевать. Я тогда, помню, отошла в сторонку и заревела: какие уж тут танцы, если на ногах мужские чеботы и четыре пары шерстяных носков… Учила разным играм. И опять я была в стороне. Проклятые танки испортили мне все детство. Детям бедняков волисполком выдавал иногда туфли или тапочки. На всех, понятно, не хватало, приходилось тянуть жребий. Мне так ни разу и не повезло. Доставалось всегда тем, у кого туфельки уже были и кто на самом деле вовсе не так уж и бедствовал, просто умел прикинуться. Поэтому твои туфли были для меня первым за всю жизнь и самым дорогим подарком. Ничему больше я так не радовалась.
Дзидра погладила меня по голове, перевела дыхание и заговорила совсем о другом:
— Ты забудь, что я тебе тут наболтала. Я не то хотела сказать. Еще в средней школе девчонки без устали хвастались своими кавалерами — кто кого провожал, сколько раз поцеловались, кто кого обвел вокруг пальца, ну и так далее. А мне рассказывать было не о чем, на меня никогда ни один парень не обращал внимания. Я была посредственной ученицей, да еще и одетой вроде Золушки. И теперь мне, студентке первого курса, стало вдруг стыдно, что я невинна. Увидела знакомого и навязалась. Все-таки память о матери… — И в голосе ее прозвучала такая неприкрытая горечь, что я содрогнулся.
— О чем ты?
— Думаешь, я не видела, что ты спал с моей матерью? «Возьми носки моего покойника, твои надо постирать и заштопать…» Твои я выстирала вместе со своими, сама заштопала и сама сносила. Не отдала матери. А ты еще не хотел узнать меня! Только, пожалуйста, не рассказывай никому, что ты взял меня девушкой!