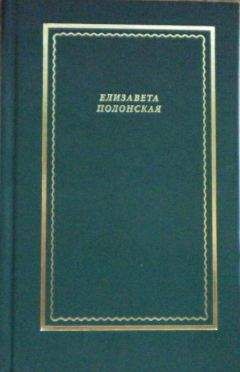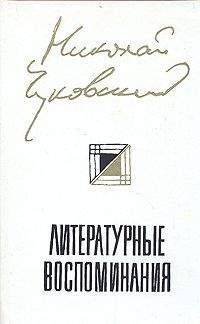Всеволод Иванов - Серапионовы братья. 1921: альманах
— Забудь. Забудь. Будем жить дальше.
Агент Че-Ка в коричневом пальто выехал с секретным поручением из Москвы, отправив предварительно срочную телеграмму. Замшалов ехал вместе с ним и говорил:
— Я, как коммунист и ответственный советский служащий, немедленно же стал наблюдать. И когда понял, в чем дело, приехал к вам, чтобы рассказать. И как раз вовремя, потому что Румановой вы, кажется, не совсем поверили. Но не оказался бы он уже у белых.
И тонкая затянутая фигура Замшалова ломалась с треском, и тонкая рука щелкала серебряным портсигаром, предлагая папиросы.
Коричневый человек молчал и курил.
На одной из станций они встретили дагестанца.
XXЧечулин спал, тяжко всхлипывая и всхрапывая.
Жарков посмотрел в окно и вышел на двор. Покружил по двору, вышел в поле, на полдороге к деревне остановился.
Красноармейцы бежали босые вприпрыжку. Деревня закипала молчанием.
Утро было. Золотушное солнце нехотя подымалось над деревней. Красноармейцы бежали. Оттуда, из-за деревни, придут новые люди, его люди. Поручик Жарков ждал новых людей. И мужики ждали новых людей. А туча наскочила на солнце, и солнце прищурило глаз на землю.
Отряд особого назначения неслышно подошел сзади и доверчиво собрался вокруг Жаркова. Доверчиво затягивали пропащие люди кушаками серые шинели и доверчиво жались к поручику, ожидая приказаний. Ветер сдвинул тишину, потащил, отбросил, раскидал тишину и понесся, полетев по полю. Поручик Жарков повернулся резко и мимо пропащих людей, совсем им чужой и не начальник, ушел к обрыву. И пропащие люди остались одни в поле, аккуратно затянутые кушаками и недоумевающие.
Поручик Жарков у обрыва смотрел через верхушки деревьев — и гнилой запах ударил в нос. Труп, гниющий, безобразный. Неужели за два дня не убрали? Поручик смотрел на червей, кишащих в щетине, на черное мясо, в котором копошились черви. И услышал крики. Это пропащие люди, оставленные начальником, ветром разлетелись по полю — драться, защищаться, нападать.
— Но не пожрет младенца!
Понял Жарков и вытянулся над обрывом. Над обрывом — офицерское лицо, крепкое в скулах, неподвижное, простое.
Услышав из усадьбы крики, повернул резко от обрыва и увидел, как в поле добивали белые пропащих людей, аккуратно затянутых кушаками.
В усадьбе два солдата гонялись по комнатам за Чечулиным. Чечулин, повизгивая, перебегал из комнаты в комнату и прятался за стульями, столами, дверьми. Повизгивая, просил:
— Братцы мои! Не нужно, братцы мои! Братцы мои!
Солдаты гонялись за ним по усадьбе и хотели заколоть штыками. И загнали в комнату, из которой не было выхода. Чечулин бегал по комнате, повизгивая, и, загнанный в угол, просил:
— Братцы мои. Не нужно.
Схватил руками холодный и острый штык, от живота отстраняя. С рук потекла кровь. А стена налегала на спину.
Поручик Жарков вошел в комнату и сказал:
— Я председатель. Я.
В деревне Безносый лежал, раскинув руки и ноги, посреди улицы. И лежал, раскинув руки и ноги, горький пьяница, бывший председатель. И еще лежали мужики, чтобы больше не встать.
А почтеннейшие поглаживали степенно бороду и говорили, что председателя, помещикова сына, и того, что в папахе ходил, поймали на усадьбе и убили. А тот, что в кепке, успел удрать.
Май 1921 г.
ПОРУЧИК АРХАНГЕЛЬСКИЙ
По туго натянутому голубому небу медленно катился ослепительный шар. Горячий воздух тяжело налег на море, на песок, на сосны. Еще секунда — и все вспыхнет ярким пламенем, треща, как сухие ветки в жарко натопленной печи.
Медленные пары двигались по пляжу — вперед, назад и опять вперед. Голубое, розовое, фиолетовое, оранжевое, желтое, зеленое мелькало перед глазами и расплывалось шариками и полосками в воздухе. И снова — пробор за пробором, бант за бантом — бесконечная вереница гуляющих. Медленные пары сверкали кольцами, серьгами, браслетами, зубами.
Мудрецы, расположившись на скамейках, глубокомысленно вычерчивали на песке палками и зонтиками таинственные заклинания в виде мужских и женских имен и других фигур, смысл которых был недоступен пониманию непосвященного. И если неосторожная сандалия, промелькнув мимо скамейки, стирала архимедову запись, мудрец колдовал на песке снова, углубленный в решение неведомой никому задачи и слепой ко всему, кроме линий, избороздивших послушный песок.
Пригвожденная острыми солнечными лучами к песку, Наташа смотрела на море, на Петербург и думала, что град Китеж, наверное, был такой же из картона вырезанный, с колокольнями и стенами. А если закрыть глаза — от моря, от неба, от солнца отделяется тогда огромная и прозрачная глубина, прилипает к ресницам, мерно покачивается и проливается в тело. Наташа плыла высоко над землей, в безвоздушном пространстве, где нет ничего — бесконечная голубая пустота.
Одна в голубой пустыне неслась Наташа. Это только приснился ей странный город на берегу моря, летящий в неизведанные страны. И может быть, скоро исчезнет город. Достиг предела. Появились в нем странные люди. Хотят все разрушить. Хотят разрушить всех прежних людей, чтобы все стали новыми, ни на что не похожими. А люди уж и так разрушены — у кого ноги не хватает, у кого руки, а кто душу потерял. Так без души и ходит. А такой — без души — все равно что пулемет. Убьет сотню — и пойдет в ресторан, чаем запьет.
Поручик Архангельский встал со скамейки и подошел к Наташе:
— Наталья Владимировна, танцы начинаются.
Дирижер изгибался, дирижер подпрыгивал, дирижер хотел взлететь на воздух. Победно взвивались фалды черного фрака. Дирижер был влюблен в первую скрипку с лицом из порнографического альбома. Дирижер ненавидел третьего с края виолончелиста, такого маленького в сравнении со своим инструментом, что казалось, не он играет на виолончели, а виолончель на нем. Больше всех старались литавры. Они звенели так, как будто тут разбивалась посуда тысячи пансионов. Локти музыкантов сверкали, как пятки убегающих солдат. Все гремело, пело и гудело — литавры, тромбоны, скрипки, виолончели, валторны и какие-то совсем неизвестные инструменты, похожие на огромные зубочистки, на которых играли мрачные небритые люди с преступными лицами и без воротничков.
Мазурка, венгерка, падеспань, тустеп, уанстеп, полька, вальс безудержно лились в прыгающую залу. В зале нельзя было найти пары ног, спокойно стоящих на месте.
Поручик Архангельский, подхватив Наташу, в легчайших объятиях скользил по паркету. Ноги выделывали такие штуки, что некий герой с Георгием, но без ноги возмущенно говорил о безнравственности танцев приятелю-авиатору, у которого на ногах не хватало в общей сложности трех пальцев. Авиатор соглашался с героем до тех пор, пока сам не улетел в объятиях неведомой красавицы.
Дирижер утомленно повис на невидимом крюке, литавры грянули по инерции в последний раз, вздернутые ноги приняли нормальное положение.
Поручик Архангельский угощал Наташу лимонадом и говорил тихим голосом:
— Очень трудно подчинить людей. Убить легко, а подчинить трудно. А если подчинить, то удерживать в подчинении — ох как трудно. Один — дирижер, другой — простой музыкант. Везде так.
Отпил из стакана и продолжал:
— Самое легкое — на войне подчинять. Там погоны гипнотизируют. Но снимается гипноз, Наталья Владимировна, катимся мы, Наталья Владимировна, и только очень сильная рука удержит.
Дирижер воскрес, и зала опять запрыгала. Поручик Архангельский поцеловал руку у Наташи:
— Подчинили вы меня, Наталья Владимировна.
IIТоварищи приезжали к Андрею и рассказывали о чудесах, сияя замысловатыми орденами. Раз приехал товарищ и без орденов, и без ноги. Поглядел на него Андрей и подумал: «Нет, дома спокойнее».
И три года Андрей — мимо чудес, мимо крови, крепко надвинув на брови фуражку, — в шахматный клуб. В шахматном клубе — свои дела. На улицах — Варшава, Лодзь, Ковно. В шахматном клубе:
— Вы слышали о замечательном событии? Тринадцатый ход в гамбите слона…
Шахматные люди опеночной кучей обрастали доску.
— Тринадцатый ход в гамбите слона…
Андрей больше всех деревяшек любил офицера и морщился, когда офицера называли слоном. У офицера непременно должны быть погоны поручика и блистательный пробор, как у Андрея, — дугой разделявший каштановую голову на две неравные части: две трети справа, треть слева.
Летом — пансион. Люди шахматными деревяшками сидели за табльдотом, и каждый делал только свой, предназначенный судьбою ход. Офицер — Андрей — работал глазами в разные стороны, пересекал шахматную доску, улетал в пустое пространство, в бесконечность, где все пути сходятся, и путь офицера пересечется с путем королевы. Только не той королевы, хозяйки пансиона, которая сидела рядом и защищала одержимого подагрой и глубокомыслием короля от противника. Все бы фигуры появились на шахматной доске — можно найти, но противника нет. Противник еще не расставил своих фигур.