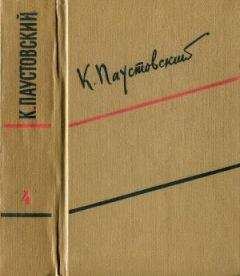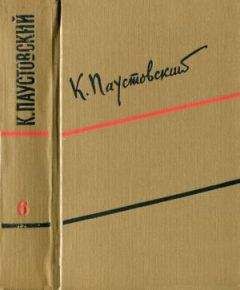Константин Паустовский - Том 5. Рассказы, сказки, литературные портреты
Малеев замолчал. Ганя его больше ни о чем не спрашивала. Тогда Малеев не выдержал.
– А что ж ты про людей наших не спрашиваешь? – спросил он. – Какие они, наши люди?
– А людей я знаю, – ответила Ганя и улыбнулась.
– Вот правильно! – сказал Малеев. – Весело с тобой разговаривать.
Утром Малеев проснулся очень рано, вышел из дому, оглянулся, вытащил из кармана бусы, повесил их на плетень около дома, а сам спрятался за углом, стал ждать. Ганя пошла к речке за водой и на обратном пути должна была пройти около плетня. По расчетам Малеева, она должна была обязательно заметить бусы. Недаром Малеев долго дышал на них, тер о шинель. Бусы горели на солнце, как пригоршня алмазов!
На тропинке показалась Ганя. Малеев следил за ней, не спуская глаз.
Ганя увидела бусы, остановилась, заулыбалась, поставила на землю ведра, потом медленно пошла к плетню, несмело протянув к бусам худенькую руку. Она подходила к плетню так осторожно, будто боялась спугнуть птицу.
Но вдруг она вскрикнула, схватилась за концы платка, повязанного на голове, и заплакала.
Малеев от удивления выскочил из-за угла и увидел вихрастого мальчишку. Он мчался вдоль плетня, зажав в руке блестящие бусы.
«Углядел!» – подумал Малеев и закричал страшным голосом:
– Брось! Тебе говорю, брось! Раскаешься!
Мальчишка оглянулся, швырнул бусы в траву и помчался еще быстрее.
Все случилось именно так, как не хотел лейтенант. Малеев подобрал бусы, подошел к плачущей Гане, сунул ей бусы в руку и, покраснев, пробормотал:
– Это тебе. Получай!
Вышло, конечно, грубо и без всякой таинственности, но Ганя подняла на Малеева такие заплаканные и благодарные глаза, что Малеев отступил и мог только сказать:
– Начальство, конечно, своим порядком… А это от нас.
Дед Игнат стоял на пороге, усмехался. Когда Малеев и Ганя подошли, дед взял у Гани бусы, позвенел ими на солнце, надел их на Гаиину шею и сказал:
– Монисто это краше золота. Эх, серденько мое, увидят твои ясные глаза счастье. С такими людьми – увидят!
Ганя поставила на траву ведра с водой и, потупившись, смотрела на бусы сияющими глазами. Вода качалась в ведрах, отражала солнце, светила снизу на бусы, и они горели на смуглой шее у девочки десятками маленьких огней.
1944
Бриз
Весь день шел дождь с холодным, порывистым ветром. Такая погода часто бывает в Москве в начале мая. Все было серое: небо, дым над крышами, самый воздух. Только асфальт блестел, как черная река.
К старому, одинокому доктору в большой дом на набережной Москвы-реки пришел молодой военный моряк. В 1942 году моряк был тяжело ранен во время осады Севастополя и отправлен в тыл. Доктор долго лечил его, и в конце концов они подружились. Сейчас моряк приехал на несколько дней из Черноморского флота. Доктор пригласил моряка к себе на бутылку кахетинского и оставил ночевать.
В полночь радио сообщило о взятии нашими войсками Севастополя. Салют был назначен на час ночи – тот час, когда улицы Москвы совершенно пустеют.
Дожидаясь салюта, доктор и моряк беседовали, сидя в полутемном кабинете.
– Любопытно, – сказал доктор, допивая вино, – о чем думает человек, когда он тяжело ранен. Вот вы, например, о чем вы думали тогда под Севастополем?
– Я больше всего боялся потерять коробку от папирос «Казбек», – ответил моряк. – Вы, конечно, знаете, там на этикетке нарисован Казбек, покрытый снегом. Ранило меня на рассвете. Было еще свежо после ночи, в тумане светило раннее солнце, надвигался знойный, тяжелый день. Я терял много крови, но думал об этой коробке и о снегах на Казбеке. Мне хотелось, чтобы меня зарыли в снег. Я был уверен, что от этого прекратится кровотечение и мне будет легче дышать. А солнце все подымалось. Лежал я в тени от разрушенной ограды, и эта тень делалась с каждой минутой все меньше. Наконец солнце начало жечь мои ноги, потом руку, и я очень долго подымал эту руку и передвигал ее, чтобы закрыть ладонью глаза от света. Пока что я не чувствовал особенной боли. Но я твердо помню, что все время беспокоился из-за коробки «Казбека».
– Почему вы так боялись ее потерять?
– Да как вам сказать… Почти у всех новичков на фронте есть одна глупая привычка – на всем, что они таскают с собой, писать адреса родных. На чехлах от противогазов, полевых сумках, на подкладке пилоток. Все кажется, что тебя убьют и не отыщется никакого следа. Потом это, конечно, проходит.
– Чей же адрес вы написали на вашей папиросной коробке? – спросил доктор и хитро прищурился.
Моряк покраснел и ничего не ответил.
– Ну, хорошо, – сказал поспешно доктор. – Оставим этот вопрос.
В это время в квартиру позвонили. Доктор вышел в переднюю, открыл дверь. Молодой женский голос сказал, задыхаясь, из темноты:
– Сейчас салют. Можно мне посмотреть на него с вашего балкона?
– Ну конечно, можно! – ответил доктор. – Вы что? Бегом мчались с третьего этажа на восьмой? Сердце себе хотите испортить! Погасите свет, – сказал доктор; моряку из передней, – и пойдемте на балкон. Только накиньте шинель. Дождь еще не прошел.
Моряк встал, погасил свет. В передней он поздоровался с незнакомой женщиной. Пальцы их столкнулись в темноте. Женщина ощупью нашла руку моряка и легко ее пожала.
Вышли на балкон. Пахло мокрыми железными крышами и осенью. Ранняя весна часто похожа на осень.
– Ну, – сказал доктор, ежась от дождя, – что же все-таки случилось с вашей коробкой «Казбека»?
– Когда я пришел в себя, коробка исчезла. Должно быть, ее выбросили санитары. Или сестра, которая меня перевязывала. Но вот что странно…
– Что?
– Та… то есть тот человек, чей адрес был на коробке, получил письмо о том, что я ранен. Сам я ему не писал.
– Ничего странного, – сказал доктор. – Кто-то взял коробку, увидел адрес и написал. История самая обыкновенная. Но вы, кажется, склонны придавать ей преувеличенное значение.
– Нет, почему же? – смутился моряк. – Но, в общем, это письмо обо мне уже оказалось в то время ненужным.
– Почему?
– Да, знаете, – ответил, поколебавшись, моряк, – любовь – как бриз. Днем он дует с моря на берег, ночью – с берега на море. Не все же нас так преданно и терпеливо ждут, как нам бы хотелось.
– Однако, – заметил насмешливо доктор, – вы разговариваете, как заправский поэт.
– Боже мой! – воскликнула женщина. – Какой вы прозаический человек, доктор!
– Нет, позвольте! – вскипел доктор.
В это время багровым огнем вспыхнул первый залп. Пушечный гром прокатился над крышами. Сотни ракет полетели, шипя под дождем, в мутное небо. Они озарили город и Кремль разноцветным огнем. Ракеты отражались в асфальте.
На несколько мгновений город вырвался из темноты. Появилось все то, что жильцы высокого дома видели каждый день: Кремль, широкие мосты, церкви и дома Замоскворечья.
Но все это было совсем другим, чем при свете дня. Кремль казался повисшим в воздухе и очень легким. Ускользающий блеск ракет и дождевой туман смягчили строгие линии его соборов, крепостных башен и колокольни Ивана Великого. Величественные здания потеряли тяжесть. Они возникали как вспышки света в пороховом дыму ракет. Они казались созданными из белого камня, освещенного изнутри розовым огнем.
Когда погасала очередная вспышка, гасли и здания, будто они сами являлись источником этого пульсирующего огня.
– Прямо феерия какая-то! – сказала женщина. – Жаль, что салют в двадцать четыре выстрела, а не в сто двадцать четыре.
Она помолчала и добавила:
– Севастополь! Помните, какая там очень-очень прозрачная и зеленая вода? Особенно под кормой пароходов. И запах поломанных взрывами сухих акаций.
– То есть как это «помните»? – сказал доктор. – Кого вы спрашиваете? Я в Севастополе не был.
Женщина ничего не ответила.
– Но я-то все это хорошо помню, – сказал моряк. – Вы были в Севастополе?
– Примерно тогда же, когда и вы, – ответила женщина.
Салют окончился. Женщина ушла, но через несколько минут вернулась, пожаловалась на головную боль, попросила у доктора пирамидона и снова ушла, смущенно попрощавшись.
Ночью моряк проснулся, посмотрел за окна. Дождь прошел. В разрывах между туч горели звезды. «Меняется погода, – подумал моряк, – поэтому и не спится». Он снова задремал, но протяжный голос сказал совсем рядом: «Какая там очень-очень прозрачная вода!» – и моряк очнулся, открыл глаза. Никого в комнате, конечно, не было.
Он потянулся к коробке папирос на стуле. Она была пуста. Он вспомнил, что у него есть еще папиросы в кармане шинели. Моряк встал, накинул халат, висевший на спинке стула, вышел в переднюю, зажег свет. На столике около зеркала, на его морской фуражке лежала изорванная и измятая коробка «Казбека». Большое черное пятно закрывало рисунок снежной горы.