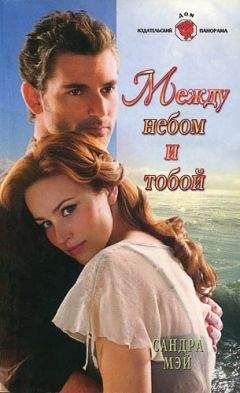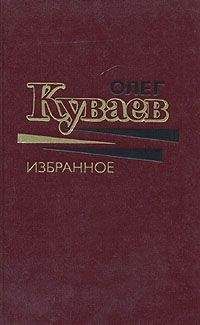Ион Друцэ - Избранное. Том 1. Повести. Рассказы
Вдруг все стихло. В конце улицы появилась сухощавая, низенькая женщина, следом за ней шли трое ребятишек, крепко держась друг за дружку. Шли они медленно, потом побежали, потом опять пошли медленно, еле передвигая ноги… У ворот все четверо остановились. Руки вдовы уже вознеслись к небу, затем упали на плечи ребятишек — и вот потекли слезы, вздрогнули губы. Но тут самый старый Падурару опять побагровел и закричал, точно она ему доводилась родной дочкой:
— Эй ты, не балуй! Со мной не шути! Иди лучше посмотри домик — осталось только обмазать и побелить…
Легко сказать «иди»… Из толпы вышла старая, седая падурянка и подошла к Иляне:
— А что же, пойдем посмотрим…
Вслед за ними молча покатилась толпа. Сначала домик понравился седой падурянке. Затем понравился ребятишкам. Старший даже нашел нужным начертить огрызком карандаша по свежей краске «Падурару», за что седая падурянка пожурила его. У младшего же — то ли от волнений, то ли оттого, что забыли о нем, — вдруг закапало со штанишек на пол, за что седая падурянка его похвалила.
А дом был и вправду хорош. На чердаке обнаружили мешок с мукой, в комнате — новые кровати, с потолка свисала керосиновая лампа, и невдалеке на табуретке спички лежали.
Постепенно люди разошлись…
Когда стемнело и засветились окна в новом доме, Иляна стала укладывать ребятишек. Но странное дело — светились эти окна что-то очень долго, уже было далеко за полночь, а они все светились… По правде говоря, деревня тоже очень трудно засыпала в эту ночь: злые языки говорили, что все равно Иляна будет голосить…
Но Иляна не голосила. Ни вторую ночь, ни третью. Ходила она, правда, какая-то измученная, была грустная, и за что бы ни взялась, все валилось из рук…
На четвертый день было воскресенье. Иляна попросила одну из своих теток присмотреть за детьми, а сама отправилась в лес за грибами. Говорили, что после недавнего теплого дождика в лесу появилось грибов видимо-невидимо. Несколько соседок вызвались было пойти вместе с ней, но Иляна что-то уж очень спешила.
Хотя дождик и вправду был теплым, грибов, видать, было мало — Иляна вернулась под самый вечер и несла в кошелке едва с десяток. Правда, злые языки говорили, что грибы грибами, а так — примерно в полдень — где-то далеко в глубине леса голосила женщина. Так голосила, что прямо душа разрывалась…
Должно быть, сплетничали эти злые языки, вечно они что-нибудь да придумают… Все же было одно подозрительное обстоятельство — с того самого воскресенья Иляна стала избегать молодого председателя. Если же случалось встретиться, норовила проскочить мимо, низко опустив голову… Случилось это несколько раз, и однажды молодой председатель остановил ее:
— Иляна, ты что такая грустная?
Иляна подняла голову, у нее задрожали ресницы, потом глаза заулыбались.
— Разве я грустная?
— Должно быть, показалось…
— Ясно, показалось…
Улыбнулась ему на прощанье и пошла своей дорогой. Шла быстро, высоко подняв голову, и только тени придорожных акаций мелькали вереницей в ее чистых глазах…
Темные очки в деревне
У Фанаке есть очки. Большие такие, темные, в роговой оправе. Они ему идут, и носит он их каждый день — и в солнечную, и в пасмурную погоду. Мир в этих очках выглядит серым, пыльным, обреченным, и это Фанаке устраивает. Он ходит целыми днями и разглядывает все, что ни попадется на его пути. Разглядывает дома, заборы, снующий кругом народ. Хорошие, редкостные очки. Во всяком случае, ни у кого в деревне таких очков нет. Откуда и каким образом Фанаке их раздобыл — неизвестно. Сам он утверждал, что получил их в качестве премии за свой общественный труд. Награждала его возле колодца тетушки Иляны, и вручал эту награду большой начальник из Кишинева. Вы, верно, удивитесь: а почему, собственно, возле колодца тетушки Иляны, а не у любого другого, потому что в деревне, слава богу, колодцы сплошь да рядом? Видите ли, тетушка Иляна живет на той окраине деревни, которая примыкает к ведущей из Кишинева магистрали, а ее колодец стоит возле самого шоссе.
Случилось так, что машину, на которой ехал тот начальник, одолела жажда именно в том месте, где был колодец. Машина остановилась, и пока шофер наливал воду, начальник вышел поразмять ноги, порассмотреть кругом, что и как. Увидев Фанаке, он подозвал его к себе. Уселись на скамеечке, пристроенной возле тетушкиной калитки, и начальник стал расспрашивать Фанаке, что думает он обо всем, что происходит в мире. И, проследив за полетом мыслей Фанаке, начальник де смог не наградить его. Так утверждает Фанаке. Впрочем, местные авторитеты готовы этому поверить. В самом деле ведь проезжала какая-то машина и стала у колодца. Правда и то, что шофер выпросил у старушки ведро, и пока он наливал воду в мотор, Фанаке беседовал с каким-то начальником. Но тут мнения расходятся. Одни утверждают, что начальник и не думал кого-либо награждать — достал очки, чтобы вытереть от пыли, и забыл их на скамеечке. Другие утверждают, что он и де думал их вытаскивать — они сами выскользнули из кармана. Наконец, ничтожное меньшинство склонно считать, что они и не выскользнули бы так легко из кармана, не окажись рядом Фанаке…
Как бы там ни было, у Фанаке есть очки. Носит он их аккуратно, старательно, день за днем. Если запылятся, снимет на минутку, стыдливо отвернувшись от людей, вытрет полой пиджака, и вот он снова в очках. Ходит и разглядывает все крутом. Рассматривает дома, заборы, людей, какие попадутся.
Чем занимается он там, в деревне, трудно сказать, — он уже по два раза перебывал на всех мыслимых должностях и теперь пошел но третьему кругу. Но лодырем его никто не посмеет назвать — он, верно, исполняет какую-то важную службу и носится по деревне, по полям целыми днями; стаптывает одну пару обуви за другой, и полы его пиджака совершенно обтрепались. Временами он выглядит таким несчастным и усталым, что многие склонны его пожалеть дескать, так ему хочется пойти домой, прилечь, отдохнуть. Но не может. Очки не пускают. Эти надменные темные очки требуют, чтобы их таскали все время, по всем дорогам, им нужно процедить сквозь мутный серый цвет все, что живет и дышит вокруг. И Фанаке, беспрекословно подчиняясь им, потуже затягивает ремешок и идет дальше, едва волоча за собой усталые ноги…
Между прочим, Фанаке — это нуль по сравнению с очками, которые он носит. Фанаке, например, летом плохо переносит жару, зимой его изводят холода. Очкам же все равно, хоть ты лето, хоть зима. Затем Фанаке, когда он в хорошем настроении, хвалит правление колхоза, когда выпьет — ругает. Очки же никогда ничего не хвалят и не ругают. Они присматриваются, прислушиваются, запоминают все вокруг и помалкивают. На переносице Фанаке им очень удобно. Фанаке обожает мужскую болтовню и, встретив тебя, издали улыбается, как бы приглашая рассказать ему что-нибудь смешное. Парень он хороший, хочешь не хочешь, а расскажешь. Когда Фанаке заливается сочным смехом, темные очки смотрят на тебя с глубоким и умным презрением. Они не отойдут, пока ты не отойдешь, и все время, пока ты будешь беседовать с Фанаке, эти очки, как верные овчарки, будут стоять, напружинившись, не шелохнувшись, будут следить и запоминать каждое твое слово, каждое дыхание твое. В конце концов тебе разонравится треп с Фанаке. Пойдешь, растерянный, своей дорогой. Фанаке попросит при случае сберечь для него еще какую-нибудь небылицу, а темные очки ухмыляются про себя, как бы говоря: «Напрасно ты, братец, рыпаешься… Погуляешь еще месяц-другой, потом, рано или поздно, попадешься…»
Острый блеск двух круглых стекол будет еще долго преследовать тебя, и ты благоразумно решишь впредь избегать Фанаке. Но не так-то просто избавиться от его темных очков. Они будут тебе сниться по ночам, они будут охотиться за тобой целыми днями, они будут ждать твоего возвращения, если ты куда уедешь, они будут ждать твоего выздоровления, если ты занеможешь. А когда ты и думать о них забудешь, когда все кругом будет тебе любо и мило, они предстанут перед тобой, чтобы ухмыльнуться: «Зря ты, братец, ерепенишься… Не такие были — и то горели…»
Раз предупредят, и два раза, и в третий раз не поленятся, так что и дом тебе не будет домом, и покой покоем, и жизнь тебе будет не в жизнь. В конце концов, как бы ты хорошо ни знал сам себя, каким бы ты честным себя ни считал, начнешь подумывать о том, что, должно быть, какое-то нарушение ты допустил, иначе зачем бы они тебя держали на примете? Конечно, было бы лучше, если бы Фанаке сразу сказал, в чем дело, но то, что эти очки дают тебе возможность поразмыслить над собственной жизнью, это, знаете ли, тоже на дороге не валяется…
Пройдет еще некоторое время, и ты начнешь радоваться: «Скажи-ка, сколько дней прошло, а эти очки не ловят меня на новых упущениях. Должно быть, они по-своему гуманны. Милые вы мои…» И снова начнешь собирать смешные небылицы для Фанаке, и при встрече начнешь их плести, опасливо поглядывая на свои ноги, а когда поднимешь голову, снова мурашки разойдутся по твоей бедной спине: «Зря ты, милок, хорохоришься…»