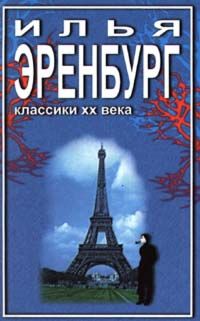Илья Эренбург - Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней
Курбов — погоня. Один предел — «скинуть в море». Видит: вечер, шепоток листвы, чувствительного, потного Сергея и Днепр.
Стал еще прямее, суше. Зрачок сгустился, потемнел и перестал искать. Наоборот, как бы пытался избавиться, увильнуть, прорваться к голой беленой стенке, к небу, где пусто и светло.
Под Черниговом белые поймали мальчика из комсомола, шестнадцать лет. Били шомполами. Живому пригвоздили ко лбу звезду с фуражки, подняли на шест («Виси, звездатый, красных дожидайся!»).
Курбов прискакал. Глаза сначала поверх, мимо: яркое и неуютное тряпье осеннего заката, в небе птичьи чертежи, рябина. Потом увидал: висит, на лбу звезда, на шее ремешок. Вплотную подъехал — лошадь билась. Пальцы комсомольца, запятнанные чернилами, напоминали: тетрадка с отогнутыми полями, пенал, ученическая прокламация. Курбов крикнул громко, никому, сильнее сжав поводья:
— Хорошо! О-чень хо-ро-шо!
В тот же вечер словили белого. Молоденький. Чем-то так напоминал комсомольца, что Николай машинально глядел на руки: нет ли чернильных пятен? Вели его. Храбро втягивал губы. Сорвал на ходу ягоду рябины — и в рот. Вспомнил дачу в Конюшках перед отъездом, когда пестреют астры, бьется парусина, возы, экзамены и мама. Мама! Не выдержал — упал. Просит Курбова: всё вместе — гимназия, сестренка торгует спичками, страшно умереть, шестнадцатого сентября — день рождения, ради Бога!.. Курбов, даже не отвернувшись, густыми темными зрачками глядя на белую рубашку (шинель содрали) — пусто и светло, — голосом отмерил:
— К стенке.
На небе красное тряпье. Здесь, вместо дисков, бессмысленная кровь и гадкая, густая духота.
15
После тот же фронт: тысячи заседаний, одних отметок, когда и где, версты. На пустых заводах. В залитых шахтах Донбасса. Субботники: брошюрочными ручками подталкивать вагоны; промерзшее железо жжется. Дискуссия. Хрипота, отчаяние, стакан воды, в стакане «гибнущая революция». Сразу, вместо революции и резолюции — лай телефона, тоже осипшего: «Тревожно… партийная мобилизация». Билет РКП № 32 618. Снова с винтовкой. Промозгло. Пудовый шаг. Под утро сводка и морковный чай в нетопленном районном клубе, где пахнет участком, мышами, шинельной дисциплиной. Только отхлебнул — уж ждут: комиссия. Финансы. Транспорт. И в глазах рябит, как куст рябины, как небесное тряпье: диаграммы.
В барские гостиные, вслед за бородой Маркса и махоркой, втерлись «разверстка», «трудфронт», «Рабкрин». Теперь у Курбова не компас — портфель, похожий на мешок хозяйки с провизией: кому штык, кому трактор. Давно уже нет людей. Остались цифры, беспокойные, требующие тщательного ухода. Их обуть, насытить калориями, просветить, ввести в обетованный парадиз, приснившийся когда-то (число к числу приходит в гости). Считал и, даже засыпая, еще нырял в глубокие прохладные нули. Глотая наспех ершистый хлеб, давился не усищем — какой-нибудь просчитанной семеркой. Был рьян и праведен, когда вступая в клубы дыма, где страсти, подвохи, обходы, выравнивал сердце в колонны цифр:
— Необходим единый план.
Потом отчаяние: «Ну я, еще две сотни на верхушках. Из рабочих лучшие погибли. Крестьяне, сопя и чавкая, почесывая пуп, ждут — привстать. Теперь в кольце не Олег, не Зимний — мы. Да что крестьяне! Партия — почти что тесто. Взошло, ползет, вот-вот за миллион зайдет, как рубль — хапуны сюда, юлы, коты. Пожалуй, Власов нынче коммунист! Старые, свои и те поддались: принимая, рявкают по-генеральски, плюс братья и сватья, плюс страсть к изящному, до балерин включительно, плюс…» (Так по привычке считал партийные прорехи, как «пробки» или «незасеянную площадь».)
Прежних встретил; Глеб, когда-то ходивший на собрания, как в департамент, теперь торжественно и веско водрузил свое революционное седалище на кресло главка. Уже в передней пахло сановной скукой. Знал все пайки: «трамотский», «богдановский» и даже «милицейский». Пользовался лошадьми, и кучер Захар, несмотря на кризис, в грудях не подался, в окриках же был стилизатором: не то «поди!», не то «пади!», но так, что все неответственные — регистраторши, нештатные инструктора и прочие — готовы были тотчас же и пойти, и пасть. Пять минут пятого товарищ Глеб, загребая разные пайки под полсть, отбывал, причем мурлыкал грозно в кучерскую спину:
— И решительный бой…
Тимофей после изгнания меньшевиков закис. Без дискуссий он и дня не мог прожить. Война, блокада, голод, все равно, он об одном: взять бы партию, нашинковать, чтобы было много-много фракций, и после — фракция на фракцию…
Шел 20-й — третий, тягчайший год. Курбов, ослабев от пчелиного гуда в ногах до полегчания (еще немного — полетит), работал, не Курбов с биографией — икс с портфелем. Пока пришло «событие» — пустячное, из мелкой хроники, но много ль надо человеку?.. Шел по Моховой. Увязалась девочка:
— Подайте!..
Дал бумажку — не берет: «Хлеба!» Долго, среди зимней чумной тишины, бился голосок. Потом — в снег. Ноги в огромных солдатских сапожищах попорхали. Слюна. Хрип. И все. Николай — над ней. У самого такой же хрип, топорщась, прыгал в горле. Лезло из какого-то доклада: «Задержка грузов… банды… транспорт… в Москве не выдавать до двадцать первого числа…» Потом в доклад прополз осипший Сергеич: «Просыпься».
Дрожал. Снял драное пальтишко — тряпье ударило в нос уксусной кислой нищетой, — зачем-то отогреть пытался, как паровоз, дышал на лобик. В отчаянии искал тропинки от числа до этих невыносимо выпиравших ребер. Не отыскал. Но только долго стоял, сутулый, давший крен. Потом пошел и сразу — на знакомое пенсне: меньшевик. Приятелями были. Пенсне не медля:
— Что же? Хлеба нет?.. А у крестьян все отбирают… Уже в Тамбовской начинается… Мы ведь предупреждали… Народное хозяйство в корне расстроено…
И, выложив, блестит стекляшками: посмотрим, что он возразит? Ведь это же правда! Но Курбов молчит. Весь — ненависть.
— Уходите! Не то я вас сейчас же застрелю…
Пенсне — бегом. Поскользнулось, разбилось. И Николай неправдоподобно, как трагик в провинции, захохотал: ха! ха! Быть может, он и прав. А впрочем… Говорят, социалисты. И вот теперь на этой улице, где только что — ребра и салазки — злорадство. Нет, не слова нужны здесь, огромный пулемет. Собрать, ну, скажем, на конгресс, выстроить рядами и в полчаса всех ликвидировать.
Дальше! Но пенсне все лезло и дразнило разбитым стеклышком из темноты. К нему присоединились: седалище Глеба, шейка Мариетты и даже кряхтящий Сергеич. Мешают. Облипают потными тушами, смехом, ропотом, икотой. Ненависть, поклокотав, ушла морозным дымком. Стал, как всегда, прикидывать. Всю ночь нырял: из сугроба в сугроб. Под утро, вспомнив, вычислив, где-то на Садовой сам себе заботливо, как врач, сказал рецепт: необходим усиленный террор. Шапку — на лицо, руки — в рукава. Двигался по всем Садовым, не человек, но танк.
И днем, когда в Цека секретарь тупил перо, когда брезгливый Ялич, увиливая, рвался в Наркомпрод, Курбов, тоску вчерашнюю откинув, пошел туда, куда его вели любовь к числу и дикий подвиг, — в презренную чеку!
16
Можно взять простого человека, курносого ветеринара, который кормит слюнявых племянников шепталой[29], добряка, мечтателя и ротозея, подклеить к носу закорючку, подмазать, обработать — и в полчаса готов злодей. Племянничек посмотрит — навек забудет о шептале. Взяли дом. Обыкновенный. В номерах жильцы: немцы-коммивояжеры, молодожены из грустных захолустий — поглядеть «Омона» и «Трех сестер», орловский помещик — без «Сестер», один «Омон» и прочие. В подвалах — удельное. На черных лестницах котята и кухаркины ребята содружно пачкали, так что дух захватывало, а среди двора шарманщик проклинал разлуку и, предвидя гнев дворника, наспех подбирал пятак заспавшихся молодоженов. Словом, дом. Взяли и сделали такую жуть, что пешеход, подрагивая даже в летний зной, старательно обходит — сторонкой. Ночью растолкать кого-нибудь и брякнуть: «Лубянка», взглянет на босые ноги, со всем простится, молодой, здоровый — бык — заплачет, как мальчонок. Волчьи головни автомобиля, меховые куртки, дрожь председателя домкома: «Собирайтесь… гражданин…» — и надо всем — Лубянка!
Взяли дом, и стал он мифом. Лестницы, как будто их придумал Пиранези: тридцать три заледеневшие ступеньки, дуло, вверх — решетка, вниз — подвал. Там духота, темнота, икота. Скользко. Табун автомобилей, храпящих, ржущих, мяукающих, вздыхающих отчетливо раздельно, как баба на полатях. Войти и выйти — легче умереть. Заставы. Заграды. Здесь — штык. Там — смрадная параша. Во дворе — проходы, переходы, тупики. С лестницы на лестницу. Чем дальше, тем страшнее. Одна ступенька — и забудь, что на Лубянской площади оттепель, призывной с гармошкой, ребята, устроившие в заколоченных ларях хижины индейцев, что там, за пропуском, штыком, за некоей дверью — смех и жизнь.