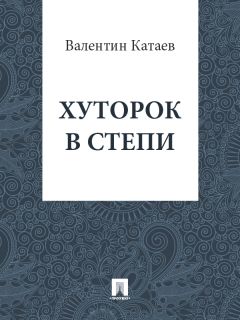Валентин Катаев - Время, вперед!
Молодой – Леонард Дарлей – московский корреспондент американского газетного треста, его переводчик.
Они – гости строительства.
Серошевский должен быть радушным хозяином. Это, несомненно, входит в его многочисленные обязанности. Он просит шофера одну минуточку подождать и быстро идет к американцам.
Они сердечно пожимают друг другу руки.
Серошевский осведомляется, как они устроились, хорошо ли провели ночь, не слишком ли их тревожили мухи. О, они спали прекрасно, вполне комфортабельно, совсем как дома.
Признаться, они не ожидали, что в диких уральских степях, на границе Европы и Азии, можно будет найти комнату в таком превосходном коттедже и такой вкусный завтрак.
Мистер Рай Руп благодушно кивает головой, жмурится. Сцепив на животе небольшие пухлые ручки, он посматривает то на переводчика, то на Серошевского.
Потом он легким движением головы останавливает мистера Леонарда Дарлея на полуслове и просит нечто перевести. При этом он лукаво посмеивается.
Мистер Серошевский ему нравится.
Леонард Дарлей, почтительно улыбаясь, переводит: мистер Рай Руп говорит, что ему очень понравилась водка; мистер Рай Руп вообще не пьет, ему не позволяет здоровье, но за завтраком он попробовал одну совсем маленькую рюмочку – и это так прекрасно, что он боится, что сделается тут пьяницей, в этих уральских степях.
Мистер Рай Руп лукаво и одобрительно кивает головой.
Товарищ Серошевский вежливо улыбается. Он хочет откланяться, но мистер Руп интересуется, любит ли мистер Серошевский пить водку.
Мистер Серошевский любезно сообщает, что иногда отчего же и не выпить несколько рюмок.
– О да, иногда это даже полезно, но, конечно, не часто.
Мистер Руп юмористически грозит мистеру Серошевскому указательным пальцем.
Мистер Леонард Дарлей интересуется:
– Много ли здесь пьют водки рабочие?
Серошевский объясняет, что на строительстве продажа алкоголя вообще запрепщена. Исключение – для иностранных специалистов. Но у них свой ресторан.
– Ах, здесь сухой закон. Это очень интересно, и, вероятно, уже есть бутлегеры?
(Мистер Леонард Дарлей вытаскивает записную книжку.)
– Недаром утверждают, что Советская Россия идет по следам Соединенных Штатов. Но она начинает как раз с того, чем Америка кончает, – бормочет Дарлей, делая заметку.
Мистер Руп многозначительно щурится. Серошевский нервничает:
– Однако я должен перед вами извиниться…
Шофер видит, что дело плохо. Он крутой дугой подводит машину к самому локтю начальника. Серошевский берется за нагретый борт торпедо.
Но мистер Руп, очевидно, не склонен прерывать так мило начатой беседы. Он любит поговорить.
Не торопясь, он делает несколько любезных и остроумных замечаний насчет местного климата и природы (насколько, конечно, он успел заметить со вчерашнего вечера). Он находит очень практичным, что этот поселок, состоящий из коттеджей, выстроили на склоне горы, в некотором отдалении от самого центра строительства; здесь гораздо меньше пыли и ветра; замечательно сухой, целебный воздух (насколько он заметил), прямо курорт; между прочим, сколько это метров над уровнем моря? Кажется, триста шестьдесят? Или это преувеличено?
Товарищ Серошевский украдкой бросает взгляд на никелированную решетку ручных часов; она слепит.
Четверть одиннадцатого.
Мистер Рай Руп берет товарища Серошевского под руку. Они не спеша прохаживаются взад-вперед, любуясь природой.
Машина мягко ходит за ними по пятам на самой маленькой скорости.
Превосходный пейзаж; если бы не березы – почти альпийский.
Березы растут в ущелье.
Из-за крутого склона виднеются их верхушки. Они насквозь просвечены солнцем. Они сухи и золотисты, как губки. Они вбирают в себя водянистые тени облаков. Тогда они темнеют и бухнут.
Ветер доносит оттуда прохладный запах ландышей.
По дороге идет тяжелая корова с тупым и прекрасным лицом Юноны.
Отсюда открывается великолепный вид на Уральский хребет. Горная цепь написана над западным горизонтом неровным почерком своих синих пиков.
Мистер Рай Руп восхищен.
– Уральский хребет, в древности Montes Riphaei, – меридианальный хребет, граница между Азией и Европой… Большевики стоят на грани двух миров, двух культур. He правда ли, это величественно?
Товарищ Серошевский рассеянно кивает головой.
– Да, это очень величественно.
Он готов прервать разговор на полуслове и уехать, – совершить грубую бестактность, недостойную большевика, стоящего на грани двух миров.
Но его спасает Налбандов.
Налбандов громадными шагами, опираясь на громадную самшитовую палку, боком спускается с горы.
Американцы с любопытством смотрят на этого живописного большевика, на его черную кожаную фуражку, черное кожаное полупальто, смоляную узкую, острую бороду.
У Налбандова резкие, бесцеремонные, мешковатые движения высококвалифицированного специалиста-партийца, твердый нос с насечкой на кончике. Мушка. Прищуренный глаз. Он не смотрит, а целится.
Он только что принимал новый бурильный станок "Армстронг". У него под мышкой сверток синей кальки – чертежи. Он торопится.
Ему нужно перехватить Серошевского.
Он подходит, широко и грузно шагая:
– Слушай, Серошевский…
Налбандов начинает с места в карьер, без предисловий, не обращая внимания на гостей:
– Слушай, Серошевский, этого твоего Островского нужно гнать со строительства в три шеи к чертовой матери вместе со всей его бригадой!.. Это не монтажники, а портачи. Спешат, путаются, ни черта не знают…
Налбандов давно уже собирается высказать Серошевскому многое.
Особенно его возмущает Маргулиес.
Конечно, это к нему, Налбандову, прямого отношения не имеет, но все же нельзя позволять производить всякие рискованные эксперименты. Строительство не французская борьба, и ответственнейшая бетонная кладка не повод для упражнений всяких лихачей-карьеристов… Тут, конечно, дело не в лицах, а в принципе…
Серошевский пропускает это мимо ушей.
(Приеду – разберусь.)
– Позвольте вам представить, – поспешно говорит он – наш дежурный инженер Налбандов. Он вам покажет строительство: вы, кажется, интересовались.
И к Налбандову:
– Георгий Николаевич, покатай-ка, голубчик, наших дорогих гостей по участкам, по окрестностям. Пожалуйте, господа. Кстати, забросьте меня на аэродром. Это отсюда пустяки. А потом – милости просим – моя машина в вашем распоряжении до пяти часов.
Серошевский говорит это залпом, без остановок, он боится, что его опять перехватят и расстроят так ловко использованную ситуацию: Налбандова – к американцам, американцев – Налбандову, а сам – на самолет.
Налбандов несколько аффектированно здоровается с гостями. Он к их услугам.
Серошевский суетится, открывает дверцу, подсаживает мистера Рай Рупа, уступает свое место мистеру Леонарду Дарлею.
Он просит Налбандова сесть с гостями. Сам он устроится впереди. Рядом с шофером. Это его любимое место. Только надо поторапливаться.
Не меняя выражения лица – сияющего, добродушного, неподвижного, мистер Рай Руп усаживается на тугие удобные подушки.
Он чувствует себя в привычной атмосфере комфорта и внимания.
Он раскинулся в автомобиле, как в ванне.
Он очень любит быструю езду в хорошей машине, по новым местам.
Его всюду предупредительно возят в хороших машинах и показывают достопримечательности, окрестности, пейзажи…
Сейчас ему тоже будут показывать. Он прикрывает веки.
Шофер опять дает газ. Машина сразу берет с места. Тугоплавкий воздух обтекает радиатор.
XIX
Горячий сквозняк рвал со стола блокноты, отдельные бумажки с заметками, записные книжки, газеты.
Георгий Васильевич, беллетрист, аккуратно прижал каждый листок какой-нибудь тяжестью: кружкой, куском руды, тарелкой, гайкой, пустой чернильницей.
Теперь наконец можно работать.
В автоматической ручке высохли чернила. Он взял карандаш. Он не любил работать карандашом. Он быстро записал на листке:
"Мир в моем окне открывается, как ребус. Я вижу множество фигур. Люди, лошади, плетенки, провода, машины, пар, буквы, облака, горы, вагоны, вода… Но я не понимаю их взаимной связи. А эта взаимная связь есть. Есть какая-то могущественная взаимодействующая. Это совершенно несомненно. Я это знаю, я в это верю, но я этого не вижу. И это мучительно. Верить и не видеть! Я ломаю себе голову, но не могу прочесть ребуса…"
Он подчеркнул слово "верить" и слово "видеть" дважды.
Грубый, рассохшийся стол придвинут к стене вплотную, под самый подоконник. Подоконник слишком высок – в полтора раза выше стола.
Окно трехстворчатое, венецианское. Его ширина значительно превышает высоту.
Номер очень маленький. Стол. Три стула. Голая лампочка. Железная тигровая окрашенная кровать, под кроватью – угол фибрового чемодана.
Больше – ничего.
В тени по Цельсию двадцать градусов тепла. На солнце – тридцать четыре.