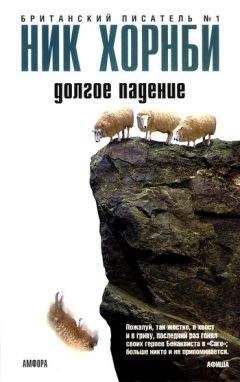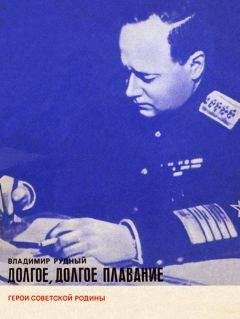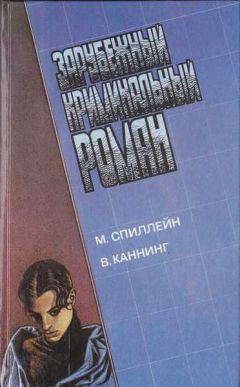Мустай Карим - Долгое-долгое детство
Валетдин тут же захлопотал, и оглянуться не успели, как на красной тряпице рядком лежали семь примерно равных ломтей хлеба. Но только примерно равных, были все же доли побольше и доли поменьше. Вожак почему-то своей доли — самого большого куска — пока не берет. И нам вперед старшего руку тянуть неловко.
— В дороге пищу надо честно делить, — сказал он. — «Это кому» разыграем.
— Ребята! — Насип вскочил даже. — Давайте я выкликать буду. У меня язык счастливый — каждый в точности свою долю получит.
Никто не возразил. Насип отвернулся. Валетдин берет кусок и спрашивает:
— Это кому?
— Хамитьяну!
— Это кому?
— Шагидулле!
— Это кому?
— Пупку!..
Семерым — семь ломтей вышло. Однако не совсем по справедливости: мне достался самый большой кусок, а предводителю самый маленький. Тот и виду не подал, но чувствую я: пища не в пищу мне пойдет — не по-честному вышло. Шагидулла на пять лет старше меня. А кто больше, того и доля должна быть больше. Надо поменяться… Пока я так размышлял, он от своего ломтя уже порядочный кус отхватил. Следом и у других мельница замолола. Как эту несправедливость исправить?
Я со своим ломтем нарочно подольше провозился. Когда же осталось три-четыре раза откусить, протянул его Шагидулле:
— На, агай, доешь.
— Сам доешь.
— Я уже наелся, валлахи…
— Не божись. Даешь — давай так. А не то — пустая клятва на тебя же падет.
От сытого живота и в ноги резвость пробежала. Я всегда удивляюсь этому: весь ломоть-то с кулачок, а сколько в нем волшебной силы. Съел — и сразу весь мир преображается. Вот и сейчас… Вдруг совсем рядом пропела какая-то птица, сизый ветерок прошумел по только что выколосившейся пшенице, веселей, приветней зашелестели березки. Даже солнце уже не так палит. И вся красота — из той краюшки хлеба.
Только мы тронулись дальше, Насип говорит:
— Давай, ребята, иноходью, как Аминова кобыла! — и сам же понесся первым. Но вожак и Валетдин тут же обогнали его. Позади всех я потрусил.
Есть на Нижнем конце нашей улицы Амин, который в самую страду, в сенокос и в жатву, в лес по ягоды ездит. Нагрузит с утра весь свой выводок от мала до велика в лубяную телегу и тянется потихоньку на Верхний конец. Колеса, даже запах дегтя давным-давно позабывшие, на весь аул долгими криками исходят. На днях Асхат спрашивает меня: «Что Аминова телега говорит?» — «Что она скажет, знай скрипит». — «Нет», — говорит Асхат, — она Амина умоляет: «Не близ-зко — не поед-дем… Не близ-зко — не поед-дем…» Хорошенько прислушаться — правду Асхат говорит.
Телега в точности так выкликает. А уж когда вечером возвращаются, потрусит пегая кобыла под гору, и все четыре колеса наперегонки хвастать начинают. А чем хвастают, Асхат тоже знает. «Все стрескали!.. Все стрескали!.. Все стрескали!..» — говорят они. Теперь, когда Асхат затосковал, весь аул речистую телегу понимает.
— Когда из города пойдем, мы тоже, как Аминова телега, запоем:
В белом городе белые калачики Все стрескали, все стрескали. Наши красные сундуки Стали тесными, стали тесными.
Раз только пропел Асхат, и Валетдин с Насипом тут же подхватили песенку:
В белом городе белые калачики
Все стрескали, все стрескали…
Иноходь свою мы уже оставили, теперь чуть боком, высоко вскидывая колени, скачками бежим, будто катим на самокате. И дружно повторяем эти для души ладные и для бега складные слова:
В белом городе белые калачики
Все стрескали, все стрескали…
Должно быть, про «красные сундуки», животы то есть, не очень складно получилось, мы про них сразу забыли. А эти — сколько ни пой, все петь хочется.
Так, «треская калачи», мы вышли к высокой каменной дороге. Поднялись. По сторонам ее стоят большие-большие тополя. Выстлана дорога гладкими, как в нашей бане, камнями. Только не плоские они, а выпуклые.
— В прежние времена по этой дороге царь только сам ходил. Теперь, когда Советская власть, каждый, кто хочет, может ходить, — объяснил вожак, — слабуда теперь, независимость!
Мы прошли один поворот, и — перед нами на горе стоял белый город! Вот он — протяни руку и возьми! Наш теперь город, далеко не уйдет.
— Ассалям-алейкум, город! Вот мы и пришли к тебе! — сказал Валетдин.
— Город нас встречает, души в нас не чает, калачами привечает, пошел нанизывать Асхат.
— Души не чает, калачами привечает, — повторили мы вслед за ним.
Куда ни глянь, заводские трубы торчат, минареты мечетей, купола церквей блестят. Мечеть от церкви мы отличить умеем. Из нашего аула боголюбовская церковь каждый день видна. Однако удивительно — почему эти церкви земля все никак не проглотит? Всем же известно: церкви гнезда греха — в прах рассыплются, все неверные после смерти в аду гореть будут. Церкви-то пусть, пропади они пропадом, а вот неверных жалко. Эта жалость вот с чего началась…
…Прошлой весной приехал к нам из Лекаревки с сыном Егоркой, моим ровесником, наш знаком Тимофей. Отцы за стол пить-есть уселись, мы с Егоркой взяли по лепешке и вышли во двор. У Егорки волосы желтые-желтые, глаза синие-синие, лицо, как репа, светлое, чистое. Как разговаривать, не знаем. Куда я — туда и он. Что я ни сделаю, он повторяет. Сходили в сад, на хлев слазили, потом на бревна, перед клетью сваленные, взобрались. Я ногами поболтаю, он поболтает, я вздохну, и он вздохнет.
Отцы наши разгулялись уже. Мой отец перед Тимофеем все по-русски хочет спеть. А тот по-нашему пытается. Первой Тимофея удаль выхлестнулась:
Ай да сватьюшка кума,
По малину в лес айда!
Хороша малина в чаще,
А сватьюшка слаще.
Я знаю, это он, чтобы к хлопочущей вокруг стола Старшей Матери подольститься, вломил. Теперь жди — сейчас моего отца голос заступит. Вон выдал:
Базар большой, Народ много, Русский барышня идет, Дай ему дорога.
Мы с Егоркой посмотрели друг на друга. От его синих, навевающих грусть глаз охватил меня страх. И этот мальчик, с такими ясными, такими ласковыми глазами, будет гореть в аду вечно-вечно! Он будет гореть, и как ему будет больно!
— Егорка! — воскликнул я и невольно обнял его. Он сначала испугался, а потом и сам крепко прижал меня к груди. От страшной беды, показалось мне, заслонил я его в этот миг. Теперь за это кара, наверное, перейдет на меня. Но уже поздно — маленький кяфыр[7] в моих объятиях. Теперь нам вместе в огне гореть. Отцы уже вдвоем одну песню затянули. Про нас и знать не знают. А может быть, вот сейчас, в это мгновение, двум мальчикам, мальчику желтоволосому и мальчику черноволосому — детям вашим, вынесен приговор: гореть им в аду во веки вечные. Эх, отцы, отцы! Жалко мне их, и себя, и Егорку жалко.
…С чего это я Егорку вспомнил? А… церковь увидел.
Идем… Сердце стучит. Идем, идем, а город все на одном месте. Даже немного пятится будто. На камень и не ступить, пятки жжет. Гуськом по краю дороги плетемся. Пить до смерти хочется. Недавние прибаутки напрочь забыли. Впереди Насип шагает, за ним Хамитьян, За Хамитьяном — Валетдин… Шагидулла особняком по другой стороне дороги идет. Перед самым моим носом косолапит плоскостопый Ануар. На каждой пятке у него по трещине, с камыш толщиной. Эти пятки зимой валенок, весной-осенью сапог — и в помине не видят. Разве только лапти иной раз им и перепадут. Интересно, про родию в золотой шапке он правду сказал или сбрехнул? Станется, что и сбрехнул. Прилгнуть — это за каждым из нас водится.
— Эх, попил бы я сейчас — вволю! — сказал Насип.
— Валлахи, я и на глоток согласен! — начал божиться Валетдин. Язык бы только замочить.
— Еще ты, прорва, похнычь, раздразни детвору! — прикрикнул Шагидулла.
Больше об этом не говорили.
Мы долго шли по улице, застроенной небольшими деревянными домами, и вышли наконец к мосту через Агидель. Зачерпнули воды, кто тюбетейкой, кто войлочной шляпой, и напились вволю. Вода была теплой, невкусной. Но, напившись, мы приободрились. Калашный праздник, должно быть, за мостом, на горе находится. Праздники, они всегда куда-нибудь повыше заберутся. Здесь же покуда праздником и не пахнет. Мы прошли через мост. Но и там ничего особого праздничного не приметили. Дома, правда, повыше, ворота все на русский манер, улицы наших поуже. Подводы, верховые и просто пешие туда-сюда снуют. Друг другу и «здравствуй» не скажут.
— Эге, ребята, вон «Калачи» написано. Калачная лавка это, — сообщил Валетдин, который лучше всех нас умеет читать. Я буквы только узнаю, а в слова складывать еще не могу.
Мы перешли через улицу и встали перед дверями желтого дома.
— Парни, лучше я первый за дверную ручку возьмусь, у меня рука… только сказал Натип, как дверь распахнулась и хлопнула его по голове. На лбу тут же взбухла шишка.
— Ассалям-алейкум!.. — пробормотал он человеку, вышедшему из дверей.