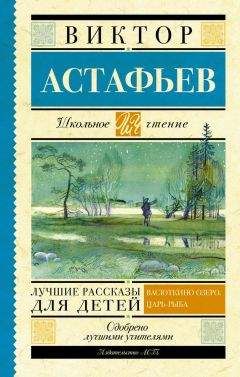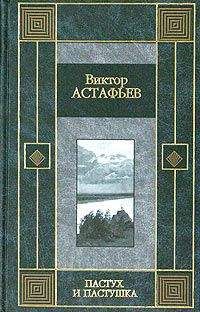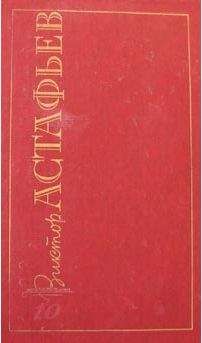Виктор Астафьев - Затеси
Вилюй оказался еще более угрюмым и беспросветным, чем родной Витим. В покинутых бараках, в избах отработанного золотого прииска рядами валялись мужики, бабы, дети, и вымирали также рядами, безвольные, ко всему равнодушные, всеми покинутые, никому не нужные.
Ждали тупо, терпеливо, когда появятся лесозаготовители, начнется сплавная пора и они будут кем-нибудь востребованы. Кто-то привезет продукты, кто-то выгонит на работу, кто-то будет охранять, бить, расстреливать, в коммунизм звать, пока же мор и тишина смертельная.
Выползли сестрица с братцем из душной избы на солнышко, присели на берегу речки и заметили, что речка кишит от рыбы, огненно плавясь, жировые плавники рыбин наружу торчат, и вспомнили, что в бане иль в сарае того подворья, где они остановились и где, ко всему безразличная, лежала на холодной печи мама, по стенам развешаны сети. Сестрица с братцем приволокли длинную, кибасами гремящую сеть к реке, разобрали ее и вброд перетащили через речку. Сеть была старая, в дырьях, и отроки догадались перехлестнуть речку в три ряда. Потом дети тащили тяжелую сеть на берег, но вытянуть не могли, так много в ней запуталось рыбы.
Света только и запомнила, как в сети буйствовали, били яркими хвостами два крупных тайменя.
Дети пошли в барак и позвали дяденек помочь им вытащить сеть из реки, вынуть запутавшуюся в ней рыбу. Дяденьки вяло матерились, но с нар не поднимались, из барака не выходили. Тогда зашумели на мужиков бабы, стали бить их палками, поленьями, гнать вон из барака.
— Гли-ка, и вправду рыба! — удивились мужики, и с той поры стали они рыбачить, силками зайцев и птицу ловить, проволочными петлями — зверей-маралов, прошлогоднюю клюкву и бруснику семьями собирать. Зоркие ребятишки в старых складах нашли бочки с солью, мешки пусть и с прелой крупой, много нужного добра вынюхали и отыскали. Жаждущие жизни и корма спецпереселенские ребятишки. Сестрица Света с братцем Колей всюду за взрослыми таскались, долю свою от добычи получали и в конце концов заставили шевелиться, с постели подняться одичавшую мать.
Много всего потом будет в жизни Светы: и детприемники, спецприемники, и всякие перевоспитывающие вражий элемент заведения, но головастая девчонка, подчиняясь стихии правильного, целенаправленного воспитания, как-то сумела сохранить личную гордость и независимость.
Наверное, тут ей помогал старый, верный воспитатель — книги и рано в ней проснувшаяся гордая осанка, поскольку в ее жилах вилась и в ее сердце вливалась кровь поляка седого и татарская кровь.
Ну да, в жилах каждого сибиряка путается много разных кровей, но не все они к разуму да в лад и к делу.
Природа и порода, хорошая память, гордая осанка, рано пробудившийся талант стихотворца помогли Свете не только выжить, но и утвердиться в жизни, получить образование. Наученная жизнью отверженного человека говорить не все, что думаешь, добывать хлеб своими руками, она отыскала и приютила все так же отрешенно проживающую на свете, навсегда сломленную мать.
Искала и братца. Не нашла.
На своем неласковом, одиноком, сиротском пути Света приобретала не одни только добродетели, пороки ее тоже не миновали: она пристрастилась к спиртному, перепивая, становилась отвратительна, как и все пьяные бабы. Крепкая на слезу, не умеющая, точнее, не наученная жаловаться, пьяная, она растягивала крашеные губы, по щекам ее текли ресницы, пышно взбитая прическа с так к ее голове идущей полосой искусственной седины опадала, растрепывалась, она припадала к плечу первого близко оказавшегося мужика, чаще всего какого-нибудь ветреного поэта, мочила его плечо слезами и жаловалась, жаловалась на что-то. Разобрать возможно было лишь одно: она потеряла братца и никак не может его найти.
Брата потеряла — беда, но вот еще и сережку серебряную с зеленым камнем потеряла — беда совсем горькая. Искала сама, искали сопутники-мужики, под кровать и, конечно, под юбку заглядывали, ладонями по полу хлопали, не закатилось ли украшение в щелку. Но курить, как многие литераторши, Света не обучилась, хотя и привычна была с детства к табачному дыму.
Одинокая душа, ей хотелось прислониться к кому-то родному, к чему-то теплому. На ходу иль по пьяному делу Света вышла замуж, но конечно же из брака того ничего путного не получилось. Она поступила на Высшие литературные курсы, уехала из Сибири в Москву и никогда ни добром, ни худом не вспоминала своего мужа.
К этой поре она уже широко печаталась, выпустила несколько книг, хорошо, завистницам казалось, шикарно одевалась. Ей свойственна была особая аристократичность, как заметил один известный поэт. А из «шикарного» у нее и был-то всего лишь воротник чернобурки, так, поэтически говоря, гармонирующий с искусственной сединой на ее голове.
Тут, на курсах, среди литинститутского и прочего бедлама, Света еще покуролесила, покавалерила, студентики бивали из-за нее морды друг другу, богатые курсанты любили посидеть в ее не без претензий убранной комнате, с модным в ту пору Хемингуэем на стене, с Иисусом Христом, писанным каким-то залетным ташистом, с иконкой, еще с Витима всюду возимой, с ковриком над кроватью, с туалетным столиком под казенным зеркалом, заваленным разными флаконами, коробочками, в обиход входящими баллончиками с запашистыми снадобьями для мытья, освежения волос и тела.
Здесь бренчала меланхоличная гитара, звучали старинные романсы, иногда возникали ругань, потасовки, битье стекла и женские истерические вопли.
После курсов Света еще помелькала там-сям, чаще всего в «гадюшнике», как тогда назывался Дом литераторов, и постепенно исчезла. Насовсем. Намертво.
Возникало имя ее в разговорах чаще всего заезжих в столицу сибиряков, стихи иной раз печатались в разных изданиях. Но сама поэтесса будто в яму провалилась. Ползал слух по столице и ближайшим окрестностям, будто заболела сибирская поэтесса странной болезнью. После курсов, поднакопив денег, она купила в кооперативном доме писателей квартирку, перевезла из Сибири мать и безвылазно жила с нею, не являясь никому на глаза, не подавая голоса и даже якобы с печатными изданиями сообщаясь посредством почты и телефона.
Однажды я увидел ее все в том же Доме литераторов и прошел мимо, не узнав. Она окликнула меня и, жалко морща усохший рот в виноватой усмешке, укорила: «Что ж ты своих земляков-сибиряков не узнаешь? Совсем овологодился!..»
Худенькая, бледненькая, подростка напоминающая, коротко стриженная, под блондинку крашенная, видимо, белым волосам надлежало скрывать ныне уже истинную, природную седину, на послушницу из одинокой кельи похожая, она в этом кротком, отроческом виде была еще более привлекательна, чем та искусственно созданная ею самою пани Светлана, которую она прежде любила и умела с вызовом носить по свету.
Рядом с нею отирался бывший студент Литинститута, парень бросовый, поэт никчемный, вороватый. Он все время пытался дать понять, что является мужем данной послушницы, но она этого не подтверждала, лишь досадливая, презрительная гримаса искажала ее истаивающее лицо, на котором каким-то уже бархатистым отсветом притуманенно светились ее темно-серые, непривычно огромными сделавшиеся глаза.
Как положено талантливому российскому человеку, над ним в определенный час непременно должен закружиться стервятник.
Не вспомню, о чем мы говорили со Светой, стоя среди цэдээловской толчеи, да и спутник ее мешал нам поговорить, лишь щемило мое сердце жалостью, и когда она, прощаясь, поцеловала меня в щеку, я непроизвольно погладил ее по голове и едва сдержал слезы.
Я всегда радовался ее тихим складным стихам, похожим на имя поэтессы. В них было много света, тепла, истинного чувства любви к жизни, негасимое, трепетное прикосновение оголенным сердцем к родной сибирской природе, спасительнице и целительнице ее, в которой «брови тоньше хвоинок и темней соболиных мехов».
Думы памятью вяжет речка с именем Кан.
Льдины стаей лебяжьей держат путь в океан.
Вокруг не видно ни души. Гольцов неровна линия.
…Кедровник, мягок и пушист, в звенящих прядях инея.
В тихую лирику поэтессы постепенно начали вструиваться мотивы одиночества, неизбывной печали, но по-прежнему почти не было жалоб на свою судьбу, проклятий прошлому времени, вилюйским баракам, обвинений гонителям и погубителям людей.
Ее сердце было создано для любви, и оно верно держало этот настрой. Но вот в стихи Светы пришло отчуждение от этого суетного мира, неизбежное при этом предчувствие манящей дали, приближение той самой «вечной музыки», что звучала и звучит в сердцах истинных, природой рожденных поэтов. Им дано, только им со всей пророческой силой и болью почувствовать, иногда и предсказать свою смерть.