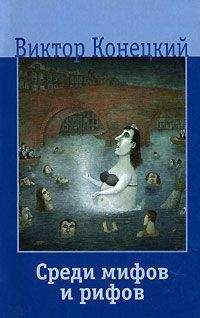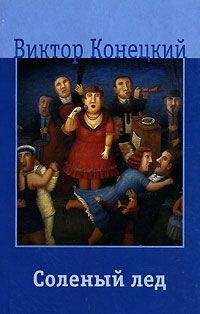Виктор Конецкий - Том 6. Третий лишний
Юльку в морге мы снимали с того стола, где за три года до него лежала Лиля Куприянова. Она отравилась, он повесился. И оба прошли через морг той самой больницы им. 25 Октября, в которой в блокаду умерла моя тетя Матюня и возле которой мы, послевоенные курсанты, на шлюпках дозор несли. Книжек надо было поменьше читать, особенно эту проклятую русскую классику. Читали бы современников, небось и сейчас живы были…
И куда это несут меня мысли июльским чудесным днем по дороге к тенистым кущам и аллеям Стрельнинского парка?
Трамвайная линия была пуста, я подложил носовой платок и присел перекурить на рельсу. Сам эту рельсу здесь укладывал тридцать пять лет назад. И теперь имею полное право на ней посидеть. Как это англичане про «умереть» говорят? Да, «переплыть реку» говорят. Кажется, у Мелвилла встречается. «Море было моим Гарвардским и Йельским университетом…» Это тоже он сказал. Что ж, могу повторить… От рельсы пахло теплой натуральной сталью.
Над кустарниковыми зарослями у входа на кладбище торчали подстриженные тополя. Тополя-пуделя…
Сотня голубей, конечно, топтались на площадке. Пикассо сюда не хватало… Вместо Пикассо две старухи кормили голубей хлебными крошками.
И почему-то уже изредка летели откуда-то и падали пожелтевшие осенние листья.
В канаве валялась вверх колесами ржавая детская коляска.
Одна старуха — с толстыми, слоновьими ногами — подошла ко мне, заговорила. Другая — с обгорелым на солнце лицом, безносая — выглядывала из-за нее.
Любят меня старухи. Что бы это значило? Тем более взаимности в себе я что-то не замечаю.
Старуха со слоновьими ногами доверчиво и не сбиваясь рассказывала, что давеча хорошо беседовала с мужем. Я не сразу понял, что беседовала она не с живым человеком, а с мертвецом на его могиле.
Живость рассказа старухи и альбиносная белость глаз были в сочетании довольно жуткими, хотя и не без театральности.
И вдруг ловлю себя: все это уже было! Все повторяется, все было, было, было, было… или в прошлых книгах писал и забыл? Но точно: и внутреннее настроение, состояние души, и состояние природы, ее настроение — все повторяется или даже в тысячный раз происходит во мне и окружающем мире.
Старуха с мертвыми глазами, теплая рельсина и детская коляска колесами вверх…
От старухи кое-как отделался, но от размышлений об отношении с действительностью и искусством отделаться оказалось не так-то просто. Ведь это истинная правда, что еще в сороковых — начале пятидесятых мы с Лилькой и Юлькой читали «Искусство и революция» Гейне и даже мрачные сочинения композитора, философа, предтечи фашизма Вагнера, а не только русских классиков.
Ну, а детство, само детство. Довоенное еще?
Где-то в сороковом мать повезла в Крым. Мисхор, Алупка. Запах нагретых солнцем незнакомых трав, колючих зарослей. Полное безразличие к морю и любовь к козам, которые бодаются, и делают это довольно свирепо. Юной девушкой мать была там когда-то счастливой и влюбленной. Потому, верно, и повезла нас в такую дорогую даль. Да, через отца — ему положен был бесплатный проезд, отец работал в транспортной прокуратуре…
В Крыму живут дикие татары, которые ублажают столичных дамочек в скалах и саклях. Ну, это, конечно, уже вычитано позже. А так — живые татары верхами и на арбах. Какие-то легенды о прыгающем с Ласточкина гнезда несчастном влюбленном. Настоящая дикость и безлюдность гор, страх заблудиться. Ночная гроза и жуткое горное эхо от грома в ущелье, где жили. Мы почему-то далеко от моря жили…
В Стрельне было пустынно и как-то бесхозно. Не пригородный поселок, не дачный, не рыболовецкий, не — как когда-то — аристократический; хотя парк остался парком, то есть замечательный парк.
Бродить без цели или «гулять», то есть выгуливать себя для пользы организма и увеличения продолжительности жизни, не люблю одинаково, хотя это и разные вещи. В юности бесцельное шатание по невским набережным было мне свойственно. В зрелости оно полезно при зарождении нового литературного шедевра — думается и мечтается замечательно.
Нынче признаков беременности писательским замыслом я не ощутил. Да и не мог ощутить, ибо перед уходом в арктический рейс — весь в ближайшем будущем: с кем поплывешь, какое судно, куда занесет? И еще масса предотходных хлопот. Вот, например, медкомиссию я удачно миновал, но вдруг выяснилось, что кровь не сдал на анализ, и еще почему-то повторно назначили явку к невропатологу. Б-р… Блата среди врачей полно — почти все мои читатели, со многими и плавал вместе, и знают они меня как облупленного, а гоняют по кабинетам сидоровой козой. Очевидно, возраст настораживает, а может, и чуют эскулапским верхним или нижним чутьем что-то в моем организме настораживающее. И правильно чуют, но как-нибудь я их и в этот раз вокруг большого пальца на правой ноге обведу!
Побаливает правая нога. Это я четко почувствовал, когда парк пересек и возникла необходимость уяснить — а чего меня сюда понесло? Цель нужна.
Вероятно, следует здесь, в Стрельне, найти домишко, в котором писал один из первых рассказов. Назывался он «Без конца», а навеян был гибелью любимого двоюродного брата Игорька на фронте. Никогда этот рассказ не переиздавал. Слабенький и чересчур уж роковой и сентиментальный даже для начинающего.
Тут я его мучил, тут где-то. Убежал из коммунальной квартиры и снял в Стрельне комнатку вместе с приятелем Эдуардом Шимом.
Сняли жилье у поляка Адама Адамовича. Он имел довольно солидный дом с садом недалеко от взморья и той протоки, которая пересекает Стрельну и впадает в Маркизову Лужу. Увенчана протока длинным молом с мигалкой.
У берегов привязаны лодки и катера местных рыбаков. Замечательное местечко.
Было это, дай бог памяти, году в 56-м, и хозяину нашему тоже было пятьдесят шесть. Одинокий.
В саду Адама Адамовича под яблоней похоронен был матрос, безымянный, потому что из десанта: в десант документы не положено брать.
Никакого холмика на могиле матроса Адам Адамович не соорудил, а может, и был холмик, но когда надумал сдавать комнату дачникам, то, чтобы не портить им настроение, сровнял могилу с окружающей средой — огородом.
Мы в училище изучали опыт десантных операций Отечественной войны. И я знал историю несчастных стрельнинских десантников, так как одно время хотел даже стать узким специалистом в области навигационно-штурманского обеспечения десантных операций. И знал, что все, все до единого участники здешней высадки погибли: бойцы морской пехоты не сдавались. Немцы же очень толково применяли тактику непротиводействия высадке, а потом отсечения десанта от береговой полосы огневой завесой, окружения и рассечения окруженного десанта на отдельные группы. Десантники, попав в такую ситуацию, понимали, что дело табак, но если и оказывались в плену, то в бессознательном состоянии.
И вот один израненный матрос дополз до сада Адама Адамовича и умер на руках у него.
Соединение теории военно-морского искусства с практикой — могилой безымянного матроса под картофельными грядками — было полезно мне для сочинения рассказа, у которого не должно было быть конца.
Вечерами пили водку с чаем, и Адам Адамович рассказывал о временах оккупации. Немец, комендант Стрельны, любил рыбалку, а у Адама Адамовича была лодка. И вот он катал немца на взморье. И все бы ничего, но питался Адам Адамович неочищенным овсом. Овсяная шелуха в кишках спрессовывалась в «ершистый ком», по его выражению. Оправляться было мучительно и с большой потерей крови. Но и не в этом главное. Тужиться надо было долго, а как это возможно, ежели в лодчонке сидит чистюля-немец, бьет русско-польскую свинью веслом по голове и убежать некуда?..
Долг оккупантам хозяйственный и дошлый вообще-то Адам Адамович немного, но сквитал. Когда наши готовились к наступлению, немцы угнали его вместе с другими на запад, и освободился он только в Германии. Там сразу отправился в первый же хутор, выгнал из чистого немецкого хлева двух замечательных коров и пригнал их пешком в Стрельну, умудрившись миновать все лагеря для перемещенных лиц! Одну корову власть отобрала, вторую оставила. Через фрицевскую корову он и дом поставил, и хозяйство завел.
О полководческом искусстве организаторов стрельнинских десантов Адам Адамович рассуждал с едкой издевкой и с хорошим знанием дела, ибо в Первую империалистическую был солдатом и даже нюхнул иприта.
Бездарность и глупость балтийских десантов под Петергоф, Стрельну отличаются от бездарности и глупости большинства других наших десантов ВОВ некоторым даже блеском. Тут я в прямом смысле говорю.
Десант, один из участников которого лежал в саду Адама Адамовича, высаживался ночью, но при полной луне. А почему десант выбросили, коли тучи разошлись и луна светит, як сотня прожекторов? — вопрошал меня язва-поляк.
Я знал, что Адамыч прав.
А потом судьба свела с лоцманом десанта. Этот мудрый и опытный лоцман Ленинградского торгового порта выводил катера и баржи с десантом к Стрельне.