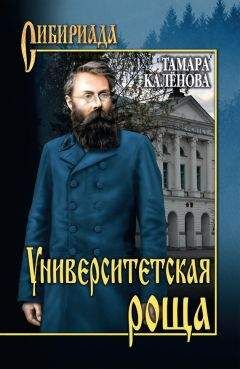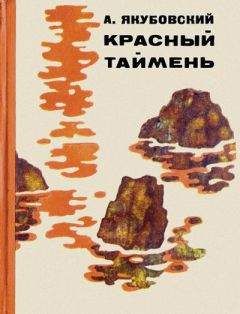Тамара Каленова (Заплавная) - Не хочу в рюкзак. Повести.
На этаже становилось тихо-тихо. Не хлопали двери, не звучал смех, не стучали девчоночьи каблучки.
Маша не спеша принималась за уборку. Вытирала пыль с подоконника, переставляла книги на полке, поправляла сбившуюся скатерть на столе, подметала пол. Больше делать было нечего. Даже завтрак и обед не входил в обязанности Маши — все делала коммуна.
Маша ходила по комнате, присаживалась к окну и подолгу смотрела, как на остановке выходят и садятся люди в трамвай.
Иногда она переодевалась в трико и принималась за упражнения, которые раньше делала на репетициях. «Але-оп!» — негромко говорила она себе и пыталась сделать сальто без разбега. Ей это удавалось с трудом — мешали вещи, теснота, да и сознание, что все это ни к чему, сковывало движения.
Телу было легко, не болели после трюков мышцы, не кружилась голова от бесконечных кувырков. Но зато на душе в такие минуты бывало смутно.
Иногда к Маше забегал Гришка.
— Вот... пальто оторвалось от вешалки, — с досадой бормотал он, держа на весу выцветшее демисезонное пальто.
Маша с удовольствием бралась за починку. Она слышала об этом легендарном пальто: девчата начали его чинить с первого курса, три года назад, а оно все еще жило. Ради Измаила Маше хотелось скорее приобщиться к тому, что его окружало: к общежитию, к его друзьям, к бедам и радостям этих друзей.
Гришка убегал и возвращался, чтобы галантно сказать забытое впопыхах «спасибо».
Общежитие больше не казалось Маше непонятным, празднично разворошенным ульем. Здесь были свои законы, свое движение жизни и традиции; дисциплина и безалаберность рядом.
Маша знала, что всем живется туго. Комнаты перенаселены. Двухъярусные кровати. Один стол на восемь-девять человек. А два парня, ради того чтобы Измаил остался в комнате с Машей, кочевали с раскладушками.
И в то же время она не замечала, чтобы такая жизнь действовала угнетающе. Порой ей даже казалось, что ребята гордятся своими трудностями.
— Подумаешь, Новосибирский университет! Им легко, по два человека в комнате, собственная ванная... Зато у нас сплошняком — кандидаты наук, — слышала она.
Конечно, в этой браваде звучали и горечь и желание иметь «собственную ванную», но никогда это не звучало злобно, завистливо. Общежитие отличалось своей собственной гордостью и достоинством.
Студенты просто забывали о тесноте, о недостатках, о нехватке денег. Говорили о сессии, о преподавателях, о любви, читали новые стихи.
Маша искала затаенную, скрытую жизнь, которая, как она была уверена, всегда незримо от новичка протекает в большом объединении людей. Но скрытой жизни не было.
Стипендия лежала под подушкой. А ключ от комнаты доверчиво прятали у порога.
Была коммуна... Она не имела постоянного пристанища. Казалось, что она существует просто так, в воздухе или в сердцах ее организаторов. Она кочевала из комнаты в комнату, сопровождаемая смехом, звоном общественных кастрюль и жестким расписанием дежурств.
Ее не было нигде, и она была всюду. Человек не мог в одиночку съесть присланную в посылке банку варенья, а непременно звал с десяток приятелей — это было дыхание коммуны.
Если студент уезжал в совершенно чужой город и не брал, не искал адресов для ночлега, а только спрашивал мимоходом: «Там общежитие хоть есть»? — это была вера в коммуну. В то, что она обязана быть всюду, что она, не раздумывая, обогреет, даст ночлег и внимание.
Если поэт посвящал стихи доброте сковороды — огромной, во весь стол, — это был шутливый экспромт, но одновременно это было благодарностью коммуне.
Она была созданием каждого, и каждый был созданием ее.
Однажды коммуна постучалась к Маше.
— Привет! Где мужик?
— На лекциях.
— Принимай коммуну. Ваша очередь... Егор протянул Маше длинный, прогибающийся до полу лозунг: «Ешь маргарин — обрастешь волосами!» И исчез.
Вернулся с дежурными. Через пять минут комнату заполнили стаканы, ложки, жестяные небьющиеся миски.
Девушки похлопотали и убежали: у них семинар.
Маша осталась одна в разворошенной комнате. Походила растерянно вокруг стола, но, поддавшись какой-то посторонней веселой силе, надела фартук и принялась хозяйничать, напевая:
А цирк шумит, поет, хохочет,
И гул несется сверху вниз.
Могучее эхо раздается:
«Браво, рыжий, браво, бис!»
В дверь просунулась кудрявая светло-русая голова:
— Готово?
— Нет, картошка не чищена!
Парень неуклюже ввалился в комнату, взял нож и, ни слова не говоря, принялся чистить картошку.
Мурлыкая свою песенку, Маша резала сало и чистила лук.
Люди никогда не мешали ей. Только наедине с собой ей было неуютно, порой грустно, а на людях всегда просторно.
Прибежали дежурные. Они разом охнули и набросились на парня:
— Ты что делаешь, изверг?!
«Изверг» уставился на них невинными глазами.
— Ошкуриваю картошку. А что?
— Тебя бы так ошкурить! Изуродовал картошечку, — запричитали девушки. Отобрали нож и стали чистить — тоненькими, быстро бегущими ленточками — для экономии.
Когда пришел Измаил, комната была полна весело жующих людей. Маша подкладывала в миски жгучую, ароматную картошку.
Измаил подмигнул Маше по-свойски и пододвинул к себе сковородку.
— А где Егор? Егор ел? — раздался чей-то озабоченный голос.
— Егора вызвали в профком. Я оставила ему, — авторитетно заявила Маша.
Никто, кроме Измаила, не удивился, откуда она все знает.
«Привыкает...» — подумал он с удовольствием. И спросил:
— Маруся, а ты сама-то ела?
Маша раскладывала на тарелки котлеты. За нее ответил парень, который ошкуривал картошку :
— Она сытая, гарнир не съедает, я видел! Измаил успокоился. Раз гарнир не съедает, значит и впрямь не голодная.
— Ой, девчонки! За мной опять два парня шастали, — вспомнила вдруг Клара, одна из дежурных.
Это в порядке вещей: взять и сказать вдруг о сокровенном, да еще при парнях своей коммуны.
Клара была своеобразной девушкой. Могла всучить кому-нибудь свой чемоданчик и объявить: «Еще один поклонник!»
Маша сдержанно улыбнулась. Какие они все — как дети! Она чувствовала себя старой, умудренной, готовой слушать все признания.
Когда разошлись, Измаил обнял жену и прижался губами к ее виску:
— Ты умница, — сказал он. — Чуткая... Магнитная стрелочка...
Маша замерла. Не так уж часто он говорил ей ласковые слова. А они нужны были ей ежесекундно, в огромном количестве! Только они могли отогнать подступавшую к сердцу тоску по привычной жизни, по цирку...
Но Измаил уже легонько отодвинул ее от себя и совсем другим голосом полувопросительно сказал:
— Лида не приходила...
Маша опустила голову. Непривычно это, когда в ласковые, только для одного человека, слова врываются другие имена...
В дверь постучали.
— Я имею право войти?
Маша отодвинулась от Измаила, поправила платье и неестественно-радушным голосом сказала:
— Входи, Гриша, ты имеешь право! Гришка вошел весь красный, растрепанный, сразу видно — с мороза.
— «Хорошо и тепло, как зимой у печки», — сказал он и присел к столу. — Вот список.
Измаил взял вчетверо сложенный лист, развернул его неторопливо и начал читать.
— Гришенька, садись есть... Я тебе оставила, — пригласила Маша.
— Потом! — отмахнулся он и с гордостью сказал, обращаясь к Измаилу: — Это еще не все! У Егора свой список. Вступило в отряд человек тридцать. Годится?
— Годится, — одобрительно ответил Измаил.
— Да, кстати, почему ты сегодня не пошел в рейд? Было интересно. Я познакомился с одним «опером». Петухов его фамилия... И этот Петухов мне кое-что рассказал.
— Что же именно? — спросил Измаил. Ему было неудобно перед Гришкой. Почему-то так всегда выходило: он быстро загорался, с удесятеренной энергией организовывал, доказывал, добивался, налево и направо раздавал идеи, а непосредственным исполнителем непременно оказывался не он сам, а Гришка.
— Петухов докопался, что Камбалу зовут Шуркой. Парень из заключения. Дружка застукали — вот он и смылся куда-то. Но Петухов уверен, что Шурка здесь, в городе, — отсыпается у знакомых. Многих уже Петухов проверил. Хочет подослать в кодлу мальчишку из бывшей шпаны. И знаешь, он согласился потаскать нас с тобой на всякие дела! Я б этому Камбале голову оторвал...
— Хорошо бы накрыть его своей группой, — сказал Измаил. — Не дожидаясь Петухова. Дело чести.
— А мне так наплевать — лишь бы поймали! Да и ниточки у милиции. Лида бы узнала, наверно, но ведь не станешь ее всякий раз брать с собой...
— Ты прав, и все же обмозговать надо...
— Да, слушай, забыл рассказать! — спохватился Гришка. — Идем, значит, с дежурства, видим, у газетного киоска — ну, тот, что у политехнического, — драка назревает. Мы туда! Оказывается, шли универсалы, а навстречу им вечерники из политехнического. Не знаю, что там у них получилось, кажется, кто-то кого-то толкнул. Слово за слово — и полезли бы эти дураки стенка на стенку... Егор как увидал — озлился: «Эх, — говорит, — тюни! Мы здесь ходим, чтоб шпана к прохожим не приставала, а вы сами... Сейчас как врежем!» Я еще не успел опомниться, смотрю, а наши ребята и тех и других сосредоточенно этак по мордам хлещут. Бьют да приговаривают: «Не дерись!» Мне и смешно, и боюсь, как бы из-за этой возни идея не прогорела. Но вроде обошлось. Качнули мы этих недоразвитых, а они молчат, сопят... И ничего. Измаил беззвучно хохотал.