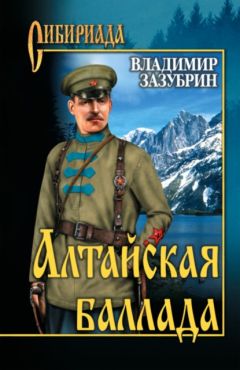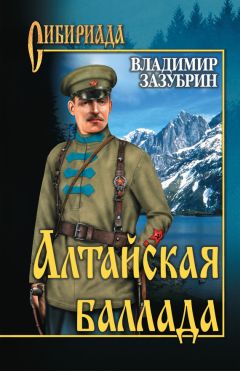Владимир Зазубрин - Два мира
Омск был переполнен русскими и иностранными войсками и беженцами. По городу носились военные автомобили под всевозможными национальными флагами. Учебные заведения были наполовину закрыты, помещения их обращены в казармы и квартиры для беженцев. В городе свободных квартир не было, а беженцы все прибывали. Беженцы ехали на лошадях, на пароходах, в поездах. Непрерывным потоком заливали они Омск и, переполнив центр города, растекались по окраинам, по окрестностям. Бежали главным образом люди имущие и все, кого связывали с белыми общие интересы, – семьи офицеров, чиновники и их семьи, духовенство, торговцы, промышленники, спекулянты, помещики и деревенские кулаки. Правительство относилось к беженцам покровительственно, но многого для них сделать, конечно, не могло, не могло даже удовлетворить всех квартирами, и люди располагались в палатках на городских площадях, бульварах, останавливались около самого Омска и жили под открытым небом. Правительственная и «независимая» черносотенная печать подняла большой шум по поводу наплыва беженцев в столицу Сибири.
– Вот, смотрите, смотрите, колеблющиеся, маловерные, – великая волна народная катится с запада.
Тысячи людей, побросав свои родные гнезда, разорившись, идут на восток, идут с женами, детьми. Что же заставляет их принять тяжкий крест скитальцев? – злорадно спрашивали газеты и, захлебываясь от радости, кричали:
– Благодетели всех трудящихся – большевики, кровавый призрак коммунизма – вот что гонит их.
– Пусть замолчат теперь писаки слева, что народные массы отошли от нас, – торжествовали публицисты его высокопревосходительства.
– Вот он, народ, измученный, ограбленный, идет за нами, идет, моля бога о даровании победы доблестной армии нашей. Она одна только сможет вернуть ему его родные пепелища.
И, впадая в пафос, поднимали глаза к небу, били себя в грудь кулаками:
– Как Моисей вывел из Египта народ свой и привел его в землю обетованную, так и ты, славный адмирал, спасешь людей этих, выведешь народ свой на путь счастья и благоденствия. Исторические дни. Совершается великий поход народа.
Заручившись благословением и одобрением печати, колчаковские администраторы чинили суд и расправу. Рабочий класс был весь целиком взят под подозрение. На рабочих смотрели как на предателей, готовых каждую минуту поднять знамя мятежа. Контрразведка купалась в крови запоротых и расстрелянных. Глухое недовольство поднималось в мощной толще рабочих масс. Рос и креп революционный дух пролетариата, и его ропот, часто открытый и грозный, тревожил покой диктатора. Офицеры, ездившие из эшелона со станции в город, нередко ловили на себе острые, ненавидящие взгляды засаленных блуз и курток…
За день до отъезда из Омска молодых офицеров принял сам Колчак. Прием состоялся во дворе особняка, занимаемого адмиралом на набережной Иртыша. К выстроившимся офицерам четкой, легкой походкой вышел сутуловатый, бритый господин в английском костюме, с русским Георгием на груди и адмиральскими погонами. Типичный морской волк. Морщинистое, энергичное лицо, горбатый нос и угловатый, выдающийся подбородок. Офицеры застыли. Руки замерли у козырьков.
– Господа офицеры, поздравляю вас с производством, – с легким старческим пришептыванием обратился Колчак к подпоручикам.
– Надеюсь, что вы окажетесь достойными носить славный мундир русского Офицера. Вы идете на фронт. Знайте, вы идете драться за воссоздание Великой Единой России. Я, приняв тяжелое бремя власти, еще раз повторяю вам, что не пойду по пути реакции, но не пойду и по гибельной дороге партийности. Мое дело воссоздать Великую Единую Россию во главе с правитель…
Адмирал закашлялся, замахал рукой.
– …с правительством по выбору народа. В этом огромном деле надеюсь на вашу помощь. Наша молодая армия сейчас находится в тяжелом положении, она отступает, не умея делать этого. Отступать, господа, труднее, чем наступать. Я надеюсь, что вы, пробывшие в училищах около года, поможете армии своими знаниями, которые у вас, несомненно, есть. Я надеюсь на вас, господа. Постарайтесь!
Диктатор приложил руку к козырьку, легко шагая, исчез в дверях своего дома. Золотые погоны, белые кокарды, шашки колыхнулись.
– Рады стараться, ваше высокопревосходительство! Уставшие, холодные руки с трудом опустились вниз.
Егерь с зелеными погонами стоял у чугунной ограды на часах. Ворота распахнулись, выпустили офицеров. Караульный унтер-офицер внимательно осмотрел большой замок. Егерь стоял неподвижно. Черная решетка легла от ограды на двор.
9. БРАТ НА БРАТА
У-у-у-у! У-у-у-у! У-у-у-у! – глухо и раскатисто вздыхали тяжелые орудия. Офицеры на подводах ехали в штаб дивизии. Подводчик Мотовилова при каждом выстреле пугливо охал, вздыхал, крестился:
– О господи, страсти какие, как гром ровно. Сила какая, господи, господи!
Мотовилов, улыбаясь, говорил подводчику: Это наши красным морду бьют.
Подводчик близорукими, прищуренными, старческими глазами смотрел вдаль.
– Кто же ее знает, каки наши, каки чужи. По мне все наши, все мы люди, все крещены, все русски. И чего деремся, бог весть. Выдумали каких-то красных да белых и дерутся.
Мотовилов злобно смотрел на старика.
– Сибирь проклятая, им все равно, им все свои. Не видали они еще красных-то, вот и говорят так. Сволочь!
Офицер с досадой плюнул, закурил папироску. Дорога была ровная, гладкая, накатанная после недавних дождей. Черной лентой прорезала она тучные луга, пашни и поскотины. Урожай был хороший. Хлеб жиром отливал на солнце. Мотовилов смотрел на огромные сибирские поля, вспоминал знакомые деревни, так резко отличавшиеся от российских своими большими, светлыми избами, крытыми железом, и недоумевал, почему сибиряки, народ зажиточный, по своему имущественному положению и интересам близко стоящие к помещику, собственнику, так враждебно настроены против белых. Добрые сибирские лошаденки бежали ровной, быстрой рысью. Ходок, полный сена, мягко покачивал. Расслабляющая, ленивая истома овладела седоком. Мотовилов так и не мог сосредоточиться на интересовавшем его вопросе, не находил ответа. На берегу большого круглого озера показалось село.
– Вот и Щучье, – сказал подводчик.
Мотовилов молча сосал папироску. Въехали в село, встреченные дружным лаем десятка собак всех пород и возрастов, проехали две-три улицы и остановились на площади среди села, перед большим домом с красным флагом у крыльца. Офицеры недоумевающе переглянулись. Колпаков слегка побледнел.
– Что за черт! Да они нас к красным привезли?
В окно высунулась большая черная борода с проседью, лохматая голова и плечо с погоном полковника.
– Нет, господа офицеры, ошибаетесь. Не к красным, а к белым, да еще к каким.
Голова скрылась. Из окна слышался громкий, раскатистый хохот. Подпоручики облегченно вздохнули и пошли в штаб представляться. Борода оказалась принадлежащей полковнику Мочалову, начальнику дивизии. Полковник Мочалов, человек весьма веселый, встретил вновь прибывших, как старых знакомых.
– Ха, ха? ха! – хохотал он, вставая навстречу смущенным подпоручикам.
– Так к красным, говорите, попали? Ха, ха, ха!
Ах вы, колченята, колченята молодые! Сидели вы в тылу и ничего не знали. Не слышали вы, видно, что наша N-ская добровольческая дивизия дерется под красным знаменем, дерется не за что-нибудь, а за Учредительское Собрание, за свободу, за революцию. Ха, ха, ха! – раскатывался полковник.
Лица у многих вытянулись от удивления, только один Иванов улыбался. Начальник дивизии смотрел на смущенные, недоумевающие лица офицеров и снова раскатывался взрывами смеха.
– Ха, ха, ха! Капитан, – обратился он к своему начальнику штаба, – посмотрите на этих юнцов. А? Какова заквасочка-то? Из молодых, да ранние. Едва красную тряпочку увидели, как уже и стоп, в тупик стали. Вот они какие, колченята-то! Это не наши веселые прапорочки, керенки, это что-то такого особенного, с перчиком.
Мочалов помолчал немного, затянулся несколько раз из короткой английской трубочки, сделался серьезным.
– Ну-с, шутки в сторону, господа. Предупреждаю вас, что наша дивизия несколько отличается от других частей и своим составом и дисциплиной. Наша дивизия состоит почти исключительно из рабочих-добровольцев N-ского завода. Знаете такой на Урале? Ну-с вот, рабочие восстали против красных потому, что некоторые комиссары принялись насаждать социализм с револьвером и нагайкой в руках, а плоды земные распределяли так, что было заметно, как пухли от них комиссарские карманы. Ну, а тут еще эсеры подлили масла в огонь со моей агитацией за Учредилку, вот наши N-цы и поднялись. Итак, господа, наши добровольцы воюют за свободу, за Учредительное Собрание, поэтому в строю они держатся свободно. Дисциплину как беспрекословное подчинение единой воле начальника они признают только в бою. Вне боя они с вами, как с товарищами, как с братьями будут обращаться. Не обижайтесь на это. Зато уж будьте покойны: в бою они вас не выдадут, за шиворот к красным не потащат.