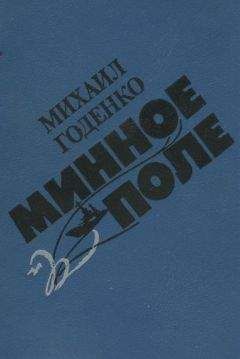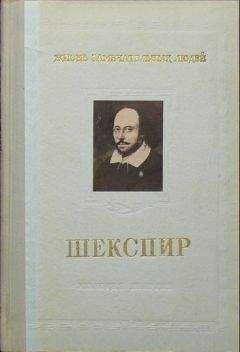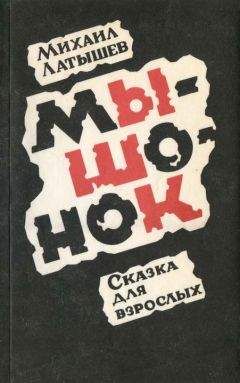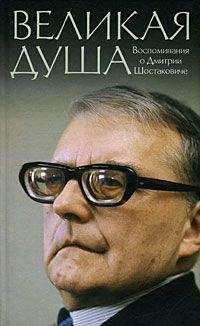Михаил Годенко - Зазимок
Я, дурной, почему-то бросился сразу не к дядьке Гавве, которого на руках спускали вниз, а к Юхиму, с которым был в ссоре. Еще издали крикнул:
— Юхимко, ступай до молотилки, батько поранитый.
Юхим слез с коня, пожал плечами, буркнул почти безразлично:
— Может, не того… Может, обойдется.
Думаю, был он таким спокойным от неожиданности, которая в первую минуту притупляет боль. Дядько Гавва тоже особой боли не почувствовал. Даже встать попытался. Но люди не дали. Видели: стоять-то уже не на чем.
3
Белый абрикос — он вкуснее обычного. Обычный какого цвета? Желтого или оранжевого. Есть такой, есть и такой. Бывает чуть с прозеленью. Бывает с бурыми пятнышками. А вот белый — он и есть белый. Никакой примеси. Чистый, словно кусковой сахар. Редкий фрукт. Растет не везде, а только в Колючем леске. Лесок назван Колючим из-за того, что в нем сплошь акация и никакого другого дерева, окромя нескольких корней белого абрикоса. Диковинная штука этот абрикос! Даже в наших что ни на есть абрикосных местах и то редкость. Говорят, завез их сюда один бессарабец — Сухомлином прозывался. Жил здесь, возле Колючего леска. И хата его тут стояла, и другие постройки. Сейчас ничего не осталось, даже камней не видать от фундамента. Сохранилось одно название: Сухомлинов хутор. Возле хутора сад развели. Это уже на нашей памяти. Всем колхозом сажали. Пожалуй, десятин двенадцать будет. Сад примкнул к Колючему леску. Так что сторож и за садом приглядывает, и за белым абрикосом.
Если ехать от току до слободы, Сухомлинов хутор никак не миновать. Сперва тянется лесозащитка с наклоненными в закатную сторону деревьями, затем Колючий лесок и новый сад.
В другое время мы бы ни за что не полезли за белыми абрикосами. Но тут такой случай! Юхим, и раньше не очень разговорчивый, теперь онемел. Темное лицо еще больше потемнело, стало тяжелым. Мы с Микитой даже и не придумаем, чем растормошить хлопца. Конечно, его промашка с зайцем непростительна. Но разве можно равнять нашу потерю с его сегодняшним горем. Душа надрывается, глядючи на его немоту. Мы бы все для него сделали, да не знаем, что надо сделать. И вот Сухомлинов хутор. При одном его упоминании слюнки текут. Потому что выговариваешь одно, а видишь другое: белый абрикос.
Задерживаться нам нельзя: время дорого, молотьба! Гнать бы даже вскачь! Но беда, не найти таких лошадей, чтобы вскачь таскали сорокапудовый груз зерна. Лучшие кони пущены в голове малой колонны — моя подвода впереди, остальные две тянутся за мной. Не придерживая лошадей, киваю Миките. Без слов понимает. Соскочил с бестарки, привязал вожжи к задку моей подводы, прыгнул в канаву, пробирается к Колючему леску. Юхим все видит, но его это мало занимает. А раньше был горяч к белым абрикосам, раньше был, считай, первым налетчиком на Сухомлинов хутор.
Кони пофыркивают, тяжело ступают. На спинах темными пятнами пот, на ляжках под шлеей мыло белеет. Постромки натянуты до предела — слышно, барки поскрипывают. Подводы торопятся. Хутор уже позади. Потянулся молодой садок. А Микиты все нет. Может, сторож застукал? Вот будет мороки! Бригадир прогонит Микиту с току, и нам с Юхимом достанется.
Микита выскочил из канавы, догнал Юхимову, последнюю, подводу. Ухватившись за доску задка, легко вспрыгнул на бестарку. Утопив коленки в зерне, выдернул подол темно-синей рубашки. Сказал:
— Все твое!
Белые абрикосы, точно крупный град, упали на темное зерно. У Юхима задвигалась на голове кепка, заходили вверх-вниз широкие уши. Юхим доволен. Он только спросил:
— А себе?
Микита великодушно заметил:
— Да ничего!
Мне не досталось ни одной абрикосинки. Но я не обижаюсь. Микита поступил честно: себе тоже не взял. Юхим, чтобы нас не дразнить, не ел. Собрал все в картуз, положил перед собой.
Проселок ведет в слободу. Там, где он делает излом, справа от дороги, раскинулись больничные корпуса. Они заметны издалека: красные, из жженого кирпича сложены.
Как известно, мы торопимся. Но проехать мимо — грешно. Словно по команде, сворачиваем на обочину, опоясываем вожжами стволы нестарых тополей, что стоят в ряд у ограды, разминаем ноги. Это мы с Микитой разминаемся без дела. Юхим же пошагал к палатам. Мешковат, косолапит. Ступает босиком по кирпичной дорожке. Картуз с белыми абрикосами зажат в руке. Такой подавленный, что на него лучше не глядеть.
Больничный двор тенистый. Широкие белолистки прикрыли его своими кронами, разрослись кусты сирени. Двор стал укромным, прохладным. Как раз таким, какой требуется нездоровому человеку.
Больница у нас славная. Городская и та ей уступает. Строилась давно. Община строила, как и церковь, на общественный кошт. Из других сел возят хворых сюда. Она и называется теперь не слободской, а районной.
Когда Юхим показался у калитки, мы к нему.
— Як батько?
Юхим долго двигал кожей головы, долго шевелил ушами, морщил смуглое лицо, моргал. В другой раз попадали бы со смеху от такой мимики. Сейчас нам стало не по себе.
— Як нога?!
— Откинули…
Юхим закрыл лицо пустым картузом, слепой пошел к подводе.
На рождество мы ходили колядовать. В матерчатой сумке, висящей на боку, пшеница. Точь-в-точь такая же, как сейчас в наших бестарках: крупная, цвета бурой меди. Бывало, достанешь горсть, сыпанешь в святой угол. Тяжелая, как затарахтит по сусальному золоту, зашумит, словно ливень благодатный. Густым урожаем посыплется на пол.
Ну, какой же хозяин или хозяйка устоит, чтобы не раскошелиться? Они увидят в этом доброе предзнаменование. Поверят в то, что озимые благополучно перезимуют, что будет ранняя весна, вовремя пройдут дожди. Ни саранчи, ни другой напасти не случится. Они расщедрятся, дадут не только «пьятака», но и пирожок в придачу. И ты, осчастливленный до краев, со своей стороны расщедришься еще больше и сверх всего добавишь в похвалу хозяйке:
Сею, вею, посеваю,
На хозяйку поглядаю.
А хозяйка молода
Семь копеечек дала!
Ого, куда хватил! В первую минуту даже торопеешь от такой смелости. Кто же это тебе ни с того ни с сего отвалит целое состояние!.. Но нет, песня — сильное оружие. Она все может. Видишь, хозяйка расплылась в улыбке, полезла под фартук, достает двухкопеечную зеленую монетку. Ты прикладываешь ее к пятаку, и у тебя действительно «семь копеечек»! Она одарила тебя за то, что ты утвердил ее в будущем. За то, что хоть на время снял гнетущие сомнения. У нее же вон на печи полдюжины глазастых. Их чем-то кормить-поить надо. А ты пришел и сказал: «Успокойся, быть тебе с хлебом!» Да еще и добавил, что она молода и пригожа. Как же ей, бедной, не расщедриться!..
Сейчас нам колядовать не разрешают. Пережиток. А сказать правду, для нас это ни с какой религией не связано, никаким опиумом не пахнет. Обычай, и только.
Вспомнилась колядка вот почему. У ворот школы, куда везем ссыпать зерно, стоит директор. Это он запретил колядовать, он сказал, что колядки — «забобоны», то есть пережитки. Спорить, ясно, никто не стал… Не такие мы грамотные, чтобы с директором спорить. И еще, помню, он добавил, кивая в сторону церкви:
— Бельмо на глазу! Бесполезная масса кирпича…
Знаю, почему про кирпич заговорил. В других селах строятся, расширяются школы, а наша как была тесная, так тесной и осталась. Скоро в три смены будем заниматься. К тому же еще и зерно приказано ссыпать в классы. Колхоз свои амбары засыпал, теперь за школу принялся… Честно сказать, те амбары доброго слова не стоят. И не амбары они вовсе, а кулацкие пустые дома. Полы прогнили, штукатурка облупилась. Окна щитами заколочены.
В школу, конечно, можно завезти много. Хранилище надежное: светло, сухо и мышей не слыхать. Директор опасается только, что из-за урожая занятия начнутся с опозданием. Но председатель обещает до сентября освободить помещение.
Заезжаем во двор. Разворачиваемся у широкой цементной площадки перед входом в школу. По очереди осаживаем лошадей. Подаем бестарки задом. Вынимаем из пазов доску-заслонку. Груз, почувствовав волю, шумно сыплется на гладенький цемент. А дальше — не наша морока. Тетки с подоткнутыми подолами орудуют лопатами, берутся за носилки.
Поля, теперь уже Полина Овсеевна, и ее мать Хавронья Панасовна дежурят в школе. Так распорядился Сидор Омельянович, директор. Школе нужен присмотр. Мало ли что может стрястись.
Поля располнела. Вроде бы стала ниже ростом. Интересно, вспоминает ли она своего воздыхателя Котьку? Нет, конечно. И чего ей вспоминать-то? Она, может, и не знала, что вздыхал. Может, и не узнает. Сам он не откроется, нет его. А мы и подавно не скажем.
Все-таки где же он? Заявится когда-нибудь или навсегда покинул слободу?
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1