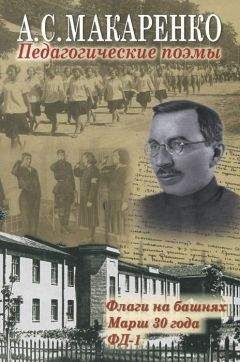Антон Макаренко - ФД-1
Коммуна украшена: везде протянулись плакаты, столовая, сцена и бюст Дзержинского в живых цветах. Много потрудились художественная комиссия. Много поработали и остальные. Все-таки наиболее поражает всех Миша Долинный, который со всей комиссией — человек двадцать, кажется, и праздника не видели — протолкались на дворе до часу ночи. Зато ни один гость не заблудился. На повороте к нашим тропинкам на белгородском шоссе стоял Мишин пикет и спрашивал публику:
— Вам в коммуну Дзержинского? Так сюда.
И указывал на линию огней, протянувшихся через лес и через поле до самой коммуны. Огни были сделаны самым разнообразным образом: здесь были и электрические фонари, и факелы, и разложенные на поворотах и трудных местах костры. Вся Мишина территория курилась дымом и пахла разными запахами наподобие украинского пекла.
Коммуна была тоже в огнях, а над главным входом в огненной рамке портрет Дзержинского.
В семь часов всех гостей пригласили в клуб, коммунары расположились под стенками. Когда все собрались, команда:
— Под знамя встать! Товарищи коммунары — салют!
Левшаков загремел салют. Может быть, читатели еще не знают, что такое знаменный салют коммунаров. Это наш сигнал на работу, обыкновенный будничный сигнал, который играется в коммуне два раза в день. Он оркестрован Левшаковым еще в 1926 году в колонии Горького и сейчас и у нас и у них является не только призывом к труду, но и салютным маршем, который мы играем, когда выносим наше знамя, когда проходим мимо ЦК партии, ВУЦИКа, когда встречаем очень дорого гостя и когда встречаемся в городе с колонией Горького…
Дежурный по коммуне идет впереди, подняв руку над головой, за ним знаменная бригада шестого отряда — три девочки. Шестой отряд уже второй месяц владеет знаменем. Гости стоя встречают наше знамя…
Началась торжественная часть. Нас приветствовали с тремя годами работы, нам желали дальнейших успехов…
После торжественной части концерт оркестра. Левшаков сыграл гостям:
1. Марш Дзержинского — музыка Левшакова.
2. Торжество революции — увертюра.
3. Увертюра из «Кармен».
4. Кавказские этюды Ипполитова-Иванова.
5. Военный марш Шуберта.
Закончил он шуткой. Вышел к гостям и сказал:
— Быть хорошим капельмейстером очень трудное дело. Нужно иметь замечательное ухо, нельзя пропустить ни одной ошибки. Чуть кто сфальшивит, я сейчас же услышу, и поэтому я могу управлять оркестром, стоя к нему спиной. Вот послушайте.
Он обратился к музыкантам:
— Краснознаменный.
У музыкантов заволынили:
— Довольно уж.
— Уморились…
— Праздник так праздник, а то играй и играй…
— В самом деле…
У публики недоумение. Мало кто понял сразу, что здесь какой-то подвох. В зале отдельные замечания:
— Ого, дисциплинка!..
Левшаков стучит палочкой по пюпитру и говорит:
— Хочется в совете командиров разговаривать? Краснознаменный…
Наконец волынка в оркестре понемногу утихает и музыканты подносят мундштуки к губам. Раздается один из громких и веселых советских маршей. Левшаков дирижирует стоя спиной к оркестру. Но уже на третьем такте часть корнетов поднимается с мест, машет руками и уходит за кулисы. Марш продолжается, но за корнетами удаляются альты, тенора, валторны и так далее. Остаются: Волчок с первым корнетом, Грушев с басом, Петька Романов с пиколкой и барабаны… Левшаков продолжает дирижировать, стоя лицом к публике, и даже строит какие-то нежные рожи, показывающие, что он переживает музыку. Но вот убежал и Волчок, последний раз ухнул Грушев, наконец, и Петька пробирается в зал, пролезая под рукой Левшакова. Остался один Могилин на большом барабане. Только теперь рукой Левшакова. Остался один Могилин на большом барабане. Только теперь Левшаков «понимает», как его подвели музыканты, и сам убегает. «Булька» последний раз гремит барабаном и хохочет. Хохочет и публика, все довольны, что это простая шутка и что с дисциплиной у дзержинцев не так уж плохо.
Настало время и пацанам показать, к чему они так долго и так таинственно готовились. Оркестр, их союзник, усаживается в соседнем классе, из класса дверь в зал открыта, и Левшаков уже с кем-то перемигивался у сцены.
Открывается занавес. В зале кто-то из коммунаров громко говорит:
— Ой, и вредные пацаны, дали им волю…
На сцене Филька в коммунарском парадном костюме. Он говорит:
— Сперва пойдет пролог. [часть текста отсутствует]
Все гонят, все клянут меня,
Мучителей толпа,
Правителей несправедливых
И мальчиков неукротимых…
Безумным вы меня прославили всех хором
И от начальства до юнца
Покрыли детище мое позором.
Вы правы, тут не разберешь конца:
И строить вредно, и не строить плохо,
Построил вот, а теперь охай.
Я в Кисловодск теперь ездок,
Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,
Где оскорбленному есть чувству уголок…
Каре… Эй, Топчий, запрягай, пожалуйста, до автобуса…
Левенсон удаляется, а на сцену три пацана с фанфарами, играют какой-то сигнал и объявляют, что феерия «Постройка стадиона» окончена.
Их место занимают три коммунарки в белых передниках и просят гостей ужинать, за их спиной Волчок играет наш призыв «все в столовую».
Гости расходятся только часам к двенадцати. Дежурные отряда коммунаров приступают к уборке всего здания, в кабинете делятся впечатлениями.
Соломон Борисович взбешен пацаньей проделкой:
— Разве я могу теперь работать в коммуне? Какой у меня будет авторитет?
— При чем тут ваш авторитет, Соломон Борисович? — спрашивает Клюшнев.
— Как при чем? Как при чем? Что это за заведующий производством, когда он освещается каким-то синими фонарями, а руки складывает, как Демон? Бегает по сцене и кричит, как сумасшедший? После этого будет авторитет?
— Вот вы, значит, не поняли, в чем тут дело. Эту пьеску пацаны здорово сделали. Теперь Правление задумается…
Действительно, феерия пацанов била не столько по Соломону Борисовичу, сколько по Правлению. Как ни комичен был Соломон Борисович, перемешанный с Борисом Годуновым, Демоном и Ленским, но его комизм был показан как необходимое следствие нашей производственной заброшенности. Жалкие цехи, размещенные по подвалам и квартирам, жалкие диковатые постройки, засилье кустарей и кустарщины были представлены пацанами в неприкрашенном виде. И председатель Правления, уезжая от нас в этот вечер, сказал:
— Молодцы коммунары, это они здорово сегодня критикнули…
12. ПОЖАРЫ И СЛАБОСТИ
Не успели ребята отдохнуть после праздника, убрать цветы, снять иллюминационные лампочки и спрятать плакаты, как приехал в коммуну Крейцер и сказал в кабинете:
— Ну, товарищи, кажется, с весны начнем строиться…
Дорошенко сонно ответил:
— Давно пора.
Сопин не поверил:
— А долго так будет казаться? Строиться, строиться, а потом скажут — денег нет. За какие деньги строиться?
— Да что вы, объелись чего? — сказал Крейцер. — У нас сейчас на текущем счету тысяч триста есть?
— Ну, есть, так это ж мало, смотря что строить…
— А вот об этом подумаем. А что, по-вашему, нужно строить…
— Мало ли чего, — сказал Фомичев. — Вот это все расчистить нужно, а на чистом месте построить завод. Новый завод…
Соломон Борисович из-за спины Крейцера моргал всем коммунарам. Это значило: построятся, как же… Но вслух он сказал:
— Надо строить маленький заводик, чтобы производить токарные станочки. Хорошая вещь, а спрос? Ух!..
— Токарные не выйдут, — сказал Фомичев. — Какой это завод на сто пятьдесят коммунаров? Нужно что-нибудь помельче…
— Надо прибавить коммунаров, — протянул Крейцер, усаживаясь за столом ССК.
— Ой, сколько же прибавить? — спросил Дорошенко.
— А сколько ж? Удвоить нужно.
Сопин задрал голову и показал на Крейцера пальцем:
— О, сказали, и все за триста тысяч: завод построить, новые спальни и классы ж нужно, а столовая наша тоже, выходит, тесная будет, а клуб?
— Так вы же работаете?
— На этом бузовом производстве много не заработаем, а тут, видно, миллионом пахнет…
Но вечером Сопин рассказывал пацанам уже в другом освещении:
— И что? И можно, конечно, построить, тут тебе такое будет — завод, во! И не то, что сто пятьдесят коммунаров, а триста, во! Это дело я понимаю.
— Вот обрадовался: триста… — кивает на Сопина Болотов, — как придут новенькие, от коммуны ничего не остается…
— Чего не останется? Ты думаешь, если беспризорные, так и не останется? Это ты такой…
— Я такой… скажи, пожалуйста. А вот ваш актив — Григорьев — вот хороший оказался.
— И то лучше тебя, — сказал Сопин.