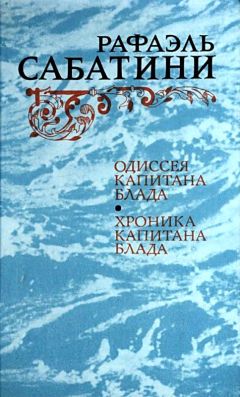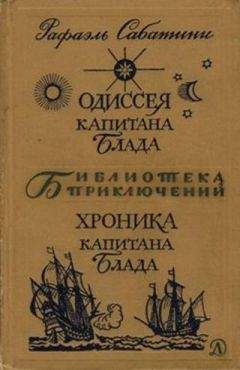Владимир Монастырев - Рассказы о пластунах
— Сумеем, — заверил Косенков. — Одного всегда переправим.
Младший лейтенант подумал, что переправлять надо не только старшего сержанта и об этом следует сейчас сказать, но язык не поворачивался. Может быть, это последняя возможность спастись. Даже наверное — последняя, а он станет возражать только потому, что сам не умеет плавать.
Выручил Жежель. Негромко, но так, что все услышали, он сказал:
— Слаб я еще вплавь идти. Надо повременить.
— Дотащим! — обнадежил Косенков. — Мы же все хорошо плаваем.
— Не все, — отрезал старший сержант.
— А кто же… — начал было Косенков. И не договорил, понял, о ком речь. Самым бодрым тоном, на какой он только был сейчас способен, заключил: — Тогда отставить. Повременим.
Поплавский оценил и мужество, и душевную тонкость этих людей. Ему хотелось всем им сказать спасибо, горячо пожать руки и вообще как-то проявить свою благодарность. Но он сдержался. Покашлял, скрывая волнение, и предложил:
— Ночью надо прощупать немцев: как они за нами смотрят — в оба или вполглаза. Я попробую выбраться на площадку перед входом.
— Прощупать надо, — согласился Жежель, — только пойдет кто-нибудь из хлопцев, они и помоложе и половчей.
Решили, что пойдет Семенов-младший.
Козюркин стоял на посту у выхода и узнал об этом решении позже. И сам вызвался постоять еще смену — за Константина, которому надо получше отдохнуть перед рискованной операцией.
Гитлеровцы весь день не подавали признаков жизни. Это было подозрительно, тем более, что прошлую ночь на площадке у входа в пещеру часовой за полночь отметил некоторое оживление и даже разбудил младшего лейтенанта. Поплавский долго сидел возле часового, вслушивался и всматривался в темный коридор. К утру все стихло, и он вернулся в глубь пещеры.
Для разведки выбрали вечернее время. Издавна повелось, что самой удобной для всяческих диверсий и разведывательных операций считается вторая половина ночи с предрассветной мглой и прочими традиционными маскировочными средствами. Поплавский и его товарищи решили нарушить традицию и начать разведку в сумерки, пока противник не успел расстаться с дневной беспечностью.
Константин Семенов еще собирался с помощью брата и ефрейтора Косенкова, а младший лейтенант уже направился к часовому, чтобы понаблюдать за входом в пещеру.
Часовой обычно стоял в самом узком месте тоннеля, ведущего из пещеры к площадке над рекой. Тут было надежное укрытие с естественной бойницей.
В тоннель еще брезжил слабый свет. Глаза Поплавского, привыкшие к пещерному мраку, даже в этом смутном свете видели хорошо. На обычном месте, возле бойницы, часового не оказалось. Младший лейтенант огляделся и тихо позвал:
— Козюркин. Где вы тут, Козюркин?
Ответа не было. Обостренный слух Поплавского уловил слабый шорох осыпающейся земли. Звук шел из тоннеля. Младший лейтенант, крадучись, пригибаясь, двинулся вдоль стены.
Тоннель плавно поворачивал влево, и, как только открылся низкий, дугообразный вход в пещеру, младший лейтенант увидел Козюркина. Он крался к выходу, так же как Поплавский, правой рукой касаясь стены. Их разделяло шагов двадцать, не больше, но Поплавский крикнул громко, как только мог:
— Козюркин, вы куда?
Тот выпрямился, точно его ударили между лопаток, и сейчас же присел, стремительно, низко, по-заячьи втянув голову в плечи. Это движение не оставляло сомнений, и Поплавский все понял.
— Назад! — крикнул он, забыв об осторожности. Вырвал наган из кобуры и еще раз крикнул: — Назад!
Козюркин не послушался. Он метнулся к другой стене, упал, вскочил и, петляя, побежал от Поплавского. Младший лейтенант поднял наган и выстрелил. Козюркин упал, извернулся и ответил из автомата.
Осколок камня ударил Поплавского в щеку. Он зажмурился от боли, но тотчас открыл глаза. Козюркин, уже не петляя, бежал к выходу. Поплавский выругался и поднял наган. Выстрелить он не успел: из-под ног Козюркина полыхнул белый огонь, взрывная волна жарко дохнула младшему лейтенанту в лицо и бросила его на камни.
Братья Семеновы, поставив Поплавского на ноги, долго не решались отпустить его: младший лейтенант пошатывался и клонился набок.
— Вас ранило? — опрашивал Косенков, вглядываясь в окровавленное лицо парторга.
— К-кажется, нет, — наконец отозвался Поплавский. — Эт-то меня камнем задело.
От входа в пещеру слепка тянуло пороховым дымом. На воле быстро темнело, и дугообразную арку словно закладывало густым туманом.
— Заминировали выход, — сказал Семенов-старший. — Вот гады!
— Наверное, ушли, потому и заминировали, — предположил Косенков.
Они медленно двинулись к выходу, держа автоматы наготове.
Козюркин лежал ничком у стены. Его присыпало сухой глиной и камнями, видны были только сапоги со стоптанными каблуками и неживая, белая рука с неестественно вывернутой ладонью.
С великой осторожностью, ощупывая каждый выступ, выбрался наружу Косенков. За ним, след в след, вышли остальные.
На востоке, за рекой, густела летняя ночь, а на западе вполнеба полыхало зарево и глухо били орудия.
— Значит, двинули немцев, — облегченно вздохнул Семенов-старший.
У Поплавского от свежего воздуха отчаянно кружилась голова, он еле держался на ногах. А Косенков точно живой воды хлебнул — не вошел, взлетел на кручу, осмотрелся и, сбежав на площадку, доложил:
— Немцев не обнаружено!
Пластуны ушли в пещеру за раненым. Поплавский не позволил себе сесть, только привалился к выступу скалы. Стоял и с нетерпением ждал, когда они вернутся. Заслышав их шаги, он ощутил острую радость — это шли его, друзья, с которыми жизнь так сблизила его, что Поплавский уже не мог без них обойтись.
ВОЗВРАЩЕНИЕ НИКИФОРА МАМКИ
В этот день Никифору Мамке не везло с самого утра. На рассвете, когда их сотня вытягивалась на край рощи, Никифор зацепился за какой-то корень, упал и поцарапал щеку. Он вытер ладонью кровь с расцарапанного лица и недовольно поморщился: щека была шершавая, колючая. «Небритый в бой иду, — подумал Никифор, — нехорошо».
Мамка считался в сотне еще молодым человеком — ему недавно исполнилось тридцать лет, — но вел он себя, как старый бывалый казак, — перед боем обязательно брился, надевал чистую рубаху, ел мало и с разбором. И не потому поступал так, что хотел подражать пожилым пластунам, а считал эти солдатские обычаи дельными и разумными. Если пробовал вышучивать кто-нибудь из молодых казаков его приверженность к дедовским обычаям, Никифор спокойно возражал:
— А и что дурного, что они дедовские? Устав наш кто писал? Тоже, мабудь, деды?
— Так при чем тут устав? — отмахивался шутник.
— А вот при том, — не повышая голоса и добродушно щуря свои серые глаза, говорил Мамка. — При том, что написано в нем — бой есть самое большое испытание для бойца. А раз самое большое испытание, ты к нему готовься строго. Вот ты — в караул ходил, когда в тылу стояли, свежий подворотничок пришивал к бешмету, сапоги и газыри до блеска тер?
— Так то в караул, — уже неуверенно возражал молодой пластун.
— Вот-вот, — нажимал Никифор, — а бой посерьезней караула — самое большое испытание…
Тут шутник разводил руками и тотчас отступал.
Вчера же Никифор побриться не успел: в рощу пошли поздно, впотьмах улеглись спать, а утром, чуть свет, двинулись на исходный рубеж.
От рощи начиналось холмистое поле, изрезанное на мелкие лоскутки крестьянских полосок. На иных стояли невысокие копны, а иные остались несжатыми, и рожь на них полегла, перепуталась. Впереди, за холмом, виднелась давно не беленная колокольня.
По этому полю пластуны пошли в наступление. Четвертая сотня, в которой служил Мамка, стала забирать сильно влево, и скоро колокольню Никифор мог видеть только оглядываясь через плечо. С холма ударил немецкий пулемет. Пластуны залегли на сжатой полоске. Никифор уронил голову на колючую стерню, подумал: «Ишь, какая щетина, как у меня на бороде».
В это время пулеметной очередью у Мамки порвало вещевой мешок на спине и пробило котелок, в котором еще были остатки утренней каши. Никифор скинул одну лямку вещевого мешка, развязал его и выпростал котелок. Пули сделали в нем три большие пробоины. Там, где они вошли, алюминий глубоко вдавился внутрь, там, где вышли, котелок вспух, а из рваных отверстий вылезла белая рисовая каша-размазня.
— Экая жалость, — вслух сказал Никифор. Ему и в самом деле жаль было котелка, с которым он не расставался уже несколько месяцев. Мамка привыкал к вещам и не любил менять привычное и обношенное на новое.
Пулемет затих, и пластуны снова двинулись. Они стали переваливать через холм, когда их накрыли минометным огнем. Сотня рванулась вниз, уходя из-под обстрела, но не все успели уйти. Никифор видел, как упал сержант Николай Грушко. Он лежал на самой хребтине холма головой вперед и медленно загребал руками землю, будто плыл.