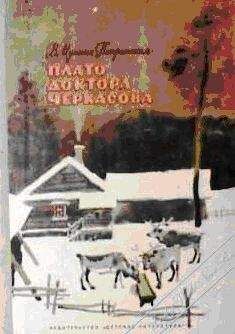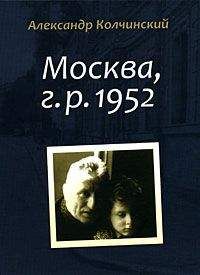Максим Горький - Под чистыми звездами. Советский рассказ 30-х годов
— Усталость в расчет принимается не целиком, — сказал Ефремов. — Что скажешь, военком?
— Ты кряжист, — ответил Кононов. — Ты сколько дорог ломал? А тут есть, которые новички. Тут и целиком расчет пересчитаешь. Где класть их спать будешь?
— То-то и оно, — сказал военком невесело. — Ну, а у тебя, Николай Эльмарович?
— Собрал, Аузен-то не соберет! Всех собрал — два вьюка догоняют. Абгемахт. Перевал за поворотом. Стоянку я смотрел.
Можно говорить, военком?
— Говори.
— Погубим мы отряд сегодня.
— Почему ты думаешь?
— А вот посмотришь.
Шагавший перед ними красноармеец сел, отирая пот, и застонал, задышал, как будто из пего выкачивали последний воздух.
— Торопливость, торопливость, — откуда-то сверху летел голос Ефремова.
— Алла верды! — закричал тогда исступленно военком.
— Алла верды!.. Алла верды в голову требуют!.. Алла верды!.. — передавали по кольцам отряда. Имя шло прямо в облака, уже обнимавшие нижний карниз тропы своей ватной тяжестью.
Из облаков вышел верховой. Княжески блистательная бурка одевала очень худые и длинные несуразные плечи. Красноржавое лицо было залито косым дождем. Конь взмыл в гору и стал рядом с военкомом. Настоящее имя Алла верды было Микан-Гассан Шакрылов, но все его издавна звали Алла верды.
— Алла верды, вода на перевале есть?
— Нет вода, — живо сказал Алла верды, откидывая капюшон.
— Трава лошадям есть?
— Нет трава…
— Что же там есть? — спросил военком, гладя мокрую шею иноходца.
— Снег есть, камень есть, темно есть, — быстро сказал Алла верды и завернул коня.
Белая черта, лежавшая над головой так, что можно было до нее достать нагайкой, приблизилась:
— Стой, отряд, стой!
— Вот тебе и перевал, — сказал Ефремов. Дождь залил трубку.
Это называется отдых
Когда грузинские меньшевики подняли восстание в Сванотии, лучший оратор Капелейшвили потерял голос, бессчетно и напрасно повторяя одно и то же. Бело-зеленые банды были выжжены и выметены железной метлой из лесов Чолура, и остатки их бежали в дебри без надежды вернуться.
Отряды Красной Армии шли в разных направлениях, добивая клочья банд. Стояла поздняя осень. Нет ничего печальнее перевала осенней ночью. Ветер особый, безлюдный, доисторический ветер хозяйничает на его просторе. Тени громадных гор качались за мглой тумана. Начал падать снег.
Красноармейцы стояли кучками, прижавшись друг к другу.
Батарейцы согревали руки, заложив их под гривы, о горячую шею лошадей. Сесть на снег никто не решался. Предстояло простоять бесчисленное множество часов до утра. После шквала наступила особая горная тишина. Ни куст, ни травинка не шевелились, потому что их не было на всем просторе перевала.
Камень и снег окружали людей. Ночлег не имел права на это мирное определение часов, отведенных под отдых.
Аузен бродил между лошадей, кутаясь в бурку. Он трогал спины лошадей, и темнота съедала его искривленный рот и почти испуганные глаза.
— Потертости, старшина, — говорил он, — нагнеты на холках — на что похоже? Попоны кладут неправильно. Спустимся с горы — взгрею, старшина.
Электрическим фонарем он освещал дрожащие лошадиные ноги, он нагибался, как ветеринарный фельдшер.
— Засечки, старшина, — почти шепотом говорил он, — венчики побиты: как вели — на хвостах мастера ездить… Спустимся с горы — взгрею.
— Камней много, — отвечали из тьмы, — по каким местам шатались — ни тебе моста, ни тебе дороги, все вброд, все вброд; камни — тоже несчитанные. И людям трудно.
Аузеи отвечал во тьму с вызовом в голосе:
— И людям трудно, товарищи! А как мы воевали в Дагестане? Пятнадцать человек пушку держали — на канатах держали. На двадцать седьмом выстреле, как сейчас помню, трах — ни каната, ни пушки. Три версты пропасть, и летела та пушка со скалы на скалу, пока не угробилась. И висит до сих пор дулом вверх, старшина. Люлька к черту…
— Мы все тут будем дулом вверх, — сказали из тьмы, — сдохнем к утру. Ни стать, ни сесть…
Аузен слушал молча.
— Товарищ начальник, — сказал стрелок Курков, мотаясь в неладной, задрипанной своей шинели. — Я в Хунзахе месяц сидел, вику ел с кониной в Первом Дагестанском, — а тут тяжельче. Сами рассудите — ни пня, ни огня…
— Пальцы гудят, — сказал другой стрелок, — ломает ноги — до колен дошло. Я уже скакал, скакал — нет мочи и скакать больше.
— Руки замерзли, винтовку держать не могу. Если б еще война, а то на походе мученье невесть за что.
Голоса шли с разных сторон. Гудел весь перевал этими хриплыми и жалобными голосами.
— Лучше этого места на свете нет — остановились.
— А ты заплачь…
— Сам заплачешь. Снег пойдет, и метель беспременно к утру хватит. Как мухи смерзнем.
Черная бурка военкома зашла краем за бурку Аузена, — Николай Егорович, что делать?
— Деда — дела никуда. Послушайте-ка!
Из темноты шел голос, скрипучий и острый. Алла верды рассказывал горскую сказку. Они подошли ближе. До них долетели обрывки фраз:
— Охотник говорил: я лезу в берлогу; когда поймаю медведя, буду дрыгать ногами…
Ветер унес продолжение в другую сторону. Потом они услышали скрип его голоса ближе, и слова стали понятней.
— …была у него голова или нет? Пошли к жене, спрашивают: была у мужа голова или нет? Жена говорит: не знаю, была голова, не была голова, но шапку я ему покупала каждый год…
Слушатели топали ногами, как в хороводе.
— Алла верды, — крикнули со стороны, — в штаб! Немедленно!
Военком и Аузен шли вдоль бивуака. Это был самый невероятный бивуак в их жизни. Холод гулял по телу, как по пустой комнате, время остановилось. Люди бегали между камней и вскрикивали от холода. Лошади храпели. Люди садились в изнеможении на снег и стучали зубами.
Неясные слова, хрип, кашель, звон упавшей винтовки, скрип вьюков — были окружены ночью. Холод, ветер, голод и усталость ринулись на людей, как на добычу. Никто не надеялся на утро. Где-то внизу стояли леса; большие стройные сухие деревья, кусты — какой огонь можно развести! Где-то внизу люди спали в домах, отгородившись теплыми стенами от этого мелкого снега и бесконечной темноты.
— Отряд погибнет, — сказал Аузен, — абгемахт. Это ясно.
Что проку в этом ночлеге?
— Николай Эльмарович, — сказал военком, — идем к Ефремову. Дела такие — что дальше некуда,
Давайте думать
Алла верды вынул из деревянного патрона на груди серые нитки, куски смолистого дерева.
— Есть дрова, я знаю, где — немного дерева. Я согрею тебя, — сказал он, — я разожгу огня.
Ефремов отвел его руку и положил свою ему на плечо…
— Алла верды, — сказал он почти любовно, — ты помнишь, как ты женился? А? Как ты показал мне и сказал: «Моя жена». — «Хуже соломы не нашел?» — сказал я тогда. Весь Владикавказ знал эту солому. Весь город валялся на ней, а ты не знал…
— Ты хорошо говорил — спасибо. Не надо такой жены нам. Спасибо.
— Алла верды, ты помнишь, как мы брали Баку? Как ты скакал три дня, сабля наголо, и кричал: «Баку, Баку!» И мы взяли Баку…
— Помню, начальник…
— Алла верды, будем думать, что делать…
— Будем думать…
И они стали шептаться, как закоренелые заговорщики.
Ефремов стоял между Аузеном и Кононовым. Синие щеки военкома от холода стали черными. Аузен почти плакал — непонятно, почему. Он не озяб.
— Дела! — сказал военком. — Штаб не рассчитал, что мы не перевалим сегодня. Конский состав с ног сошел. Люди тоже на боковую. А боковой-то и нет. Стоят. Так нельзя, Александр Сергеевич, отряд погибнет. Отвечать будешь ты… и я. Давай думать!
— Я обошел бивуак, — сказал Аузен, — ничего подобного не видал в жизни. Я снимаю ответственность за батарею, в ней к утру некому будет ни стрелять, ни нести вьюк. Надо найти выход…
Ефремов вышел из палатки. Военком и комбатр следовали за ним. В неясной мгле шатались толпы и стояли толпы. Снег больше не шел.
Четкий голос винтовки прорезал затаенные шорохи бивуака. На перевале вмиг затихли все голоса. Внизу стреляли.
— Правильно, — сказал Ефремов, — у наших меньшевичков не все еще гайки ослабли. Нас в оборот берут — слышите?
Бой шел где-то под перевалом. Выстрелы шли с разных сторон.
— Так, — сказал, повеселев, Ефремов. — Давай сюда ротных, давай сюда взводных! Николай Эльмарович, берите-ка ваши пушки, двиньте, пожалуйста, легонечко шрапнелью, а потом увидим. А потом и гранатой. Сейчас мы все согреемся.
Молодцы часовые, не прозевали. Запомним сие для потомства.
Аузен, Николай Эльмарович, комбатр,
расстроивший нервы еще в мировую войну
Кто бы поверил в отряде, что Николай Эльмарович Аузен больше всего боится темноты? И однако это было так. Ему казалось, что он умрет непременно ночью, однажды ночью. Никогда никому он не говорил об этом. Он синел от ужаса с ног до головы.