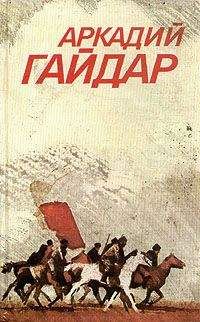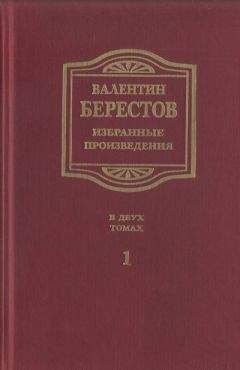Юрий Нагибин - Поездка на острова. Повести и рассказы
А зятя своего Михаил Алексеевич, памятуя наставления Авдотьи Ивановны, проучил. Однажды, когда тот по своему обыкновению ударил его исподтишка, Михаил Алексеевич отвесил ему такую затрещину, что Апраксин волчком пролетел всю приемную императрицы и расквасил нос о «монашку» карельской березы. Присутствующие расхохотались, захлопали в ладоши, но Апраксин впервые не испытал ни малейшей радости от того, что вызвал смех.
Другой раз, заметив, что Балакирев нацелился прыгнуть через него, Голицын услужливо пригнул широкую спину, крепко уперся руками в колени и позволил ловкому, но подутратившему былую гибкость суставов старому шуту совершить великолепный прыжок, вызвавший одобрение придворных. После чего спокойно отошел в сторону, не дав вовлечь себя в шутовскую чехарду.
Но ведь недаром говорят: в огне брода нет. Как ни оберегайся, беда тебя сама найдет. И случилось это вскоре после того счастливого дня, когда Авдотья Ивановна объявила ему, что ждет ребенка. Голицын уже трижды становился отцом, но такого чувства, как сейчас, не испытывал. Подумаешь, какой фокус — сотворить ребенка, когда ты в расцвете лет, когда и жена у тебя молодая, и спокойствие на душе, и упругое сердце мерно и сильно гонит кровь по жилам. Но создать дитя, когда ты весь изломан, раздавлен, смят, когда ты пробыл в разлуке с самим собой и всем светом долгие годы, когда тебя шатало от голода не потому, что не было еды, а потому, что кусок не шел в горло, когда ты, казалось, навсегда выбыл из круга живых, — это великое чудо, знак божьего благоволения, знамение, которое еще надо разгадать. Значит, он для чего-то нужен богу, коли тот хочет привязать его к жизни такими прочными нитями.
В этом умиленном, философически-религиозном настроении Голицын и отправился на службу. Он с непривычной легкостью предавался обычным глупостям, казавшимся столь ничтожными рядом с постигшей его благодатью. Как мог он придавать этой чепухе значение? Эти вельможи, сановники, фавориты — просто дети, большие, злые, капризные, глупые дети, не отвечающие за свои поступки. Он тешит взрослых детей. Вот он закудахтал — смеются, вот козу состроил — смеются, вот упал — смеются, вот Биронов сын по ногам его кнутиком хлестнул — смеются, аж закатываются, чтоб перед папашей милого сорванца выставиться. Смейтесь, бог с вами, а у меня сын будет, и ему уже не придется корячиться перед вами. Тут он приметил, как граф Левенвольде с досадой швырнул карты на стол и что-то резкое сказал своей белокурой партнерше красавице Лопухиной. Небось опять пробросился, а на нее валит. Играть он до страсти любил, а выдержки и умения большого нету. На проигрыш обычно не особо злится, он и вообще не злой. Деньги любит и делает их предостаточно в компании с другом своим Бироном. Положение Левенвольде при дворе почти такое же прочное, как у самого герцога Курляндского (это он, Левенвольде, предупредил Анну о посланных ей кондициях верховников), но амбиций неизмеримо меньше. Он не рвался к власти и к государственным постам, довольствуясь званием обергофмаршала, мог выполнить тонкое дипломатическое поручение, но к деятельности не стремился. Левенвольде хотел играть в карты, иметь много денег и любить женщин. В дальнейшем он еще больше сузил круг своих желаний: денег для картежной игры требовалось по-прежнему много, а женщины свелись к одной-единственной — очаровательной и своенравной Наталье Лопухиной. Левенвольде принадлежал к числу немногих, которые никогда не обижали Голицына, точнее, просто не замечал его, как и остальных шутов. И Голицын был благодарен ему за это. Приметив, что граф оглянулся на столик с напитками, желая, видимо, промочить спекшееся от азарта и горечи проигрыша горло, он быстро наполнил кружку и поднес Левенвольде.
Тот сделал несколько быстрых, жадных глотков. Но вместо того, чтобы успокоиться, насвеже, как бы без помех обозрел свою дурную игру и разозлился на себя. Да ведь себя не накажешь, а Лопухина была не из тех дам, чтобы дважды спустить колкость. Перед Левенвольде маячило широкое красное лицо — и резким движением он было поднял кружку. И тут увидел в странном, неестественном приближении два коричневых глаза с глубокой темью круглых зрачков, но то были не зрачки, а маленькие колодцы, и на дне их проглядывала такая мука, такая пронзающая молчаливая мольба, что Левенвольде передернуло от небывалого проникновения в чужую боль, на мгновение ставшую его собственной. Он сумел оборвать движение руки.
— Хороший квас… Благодарствую, — пробормотал он и отдал кружку.
Маленькую сценку между обергофмаршалом и шутом длиной в несколько ударов сердца заметили придворные и сделали естественный вывод: коли уж сам Левенвольде не решился окатить Квасника, значит, нынче такой расклад.
Пронесло на этот раз, но от судьбы, видно, не уйдешь. И потерпел Михаил Алексеевич от невольного творца своего счастья Артемия Волынского. После Ледяного дома и шествия народов звезда Волынского поднялась, как никогда, высоко, слишком высоко, чтобы удержаться в такой головокружительной выси. Он не был настоящим политиком, умеющим различать в сегодняшнем успехе зерна завтрашнего поражения и ловким ходом обезоруживать врагов. В успехе он был невыносимо заносчив, в неудаче — малодушен и низок. Его энергия, нахрап, дерзость не превращались в решительность, как, скажем, у Меншикова или Миниха. Завоевав вновь расположение Анны и осадив немецкую партию, Волынский вернулся к бесцельным свободолюбивым разговорам в своем кружке, не слишком заботясь о конспирации. С другой стороны, он не пропускал случая показать Анне, что годится не только для устроения шутовских праздников, в его речах, обращенных к императрице, вновь зазвучала наставническая нота, раздражавшая Анну и бесившая Бирона. Тот в грош не ставил Волынского-реформатора, но боялся Волынского-интригана. Парламента России кабинет-министр, понятно, не даст, а ему, Бирону, нагадит. Вопрос о престолонаследнике, младенце Иоанне Антоновиче, был решен и закреплен соответствующим актом, регентша вроде бы тоже известна — его мать Анна Леопольдовна, но подписание этого указа государыня все откладывала, видя в нем как бы согласие на собственную смерть. Бирон надеялся, что Анна Иоанновна передумает и назначит регентом его, но добиться этого было ох как непросто! Препятствий множество: и сама потерявшая уверенность, раскисшая от болезни императрица, и пустая, сластолюбивая, но охочая до власти Анна Леопольдовна, и ее упрямый дурак-муж герцог Брауншвейгский, и честолюбивый Миних, даже на друга Левенвольде нельзя положиться. Но все это люди без корней, а Волынский был русским, старинного рода, но связан и со служилым дворянством. Его необходимо убрать. И Бирон сказал Анне Иоанновне без всяких околичностей: или он, или я.
Это и решило участь Волынского. Без Бирона императрица не мыслила утекающей из нее жизни.
Как ни был Волынский зашорен верой в свое мнимое торжество, но и он почувствовал угрозу. Его ясные, точные доклады вдруг оказались императрице не нужны, во дворец его перестали приглашать. И тогда Волынский явился незваный, чтобы тайное сделать явным, чтобы дать врагам своим открытый бой. То был смелый до отчаянности шаг, но продиктован он был не отвагой, а полным отсутствием выдержки.
В покоях императрицы все было по-прежнему. Анна лежала на высоком ложе под ярко-голубым стеганым одеялом в чепце с лентами и розовом пеньюаре, подчеркивающем нездоровую желтизну лица и тени в подглазьях; Бирон у изголовья сосредоточенно орудовал ногтечисткой; Бенингна приготовляла какое-то лекарство, в ногах за ломберным столом — Левенвольде, Лопухина и князь Куракин вели нескончаемый карточный спор, в дальнем углу рослый Миних — голова отрублена тенью от портьеры — о чем-то шептался с белокурой томной Анной Леопольдовной, начальник тайной канцелярии Ушаков медленно потягивал квас, ошаривая присутствующих тяжелыми оловянными глазами, а придворный Квасник стоял наготове, чтобы принять пустую кружку, шуты кочевряжились на ковре. Буженинова-Голицына, ластясь к опущенной руке Анны Иоанновны, скалила белые зубы. Педрилло пританцовывал, пиликал на скрипочке, меж клеток с гортанно покрикивающими попугаями томился Тредиаковский со свернутой в трубочку рукописью, тщетно ожидая, что на него обратят внимание и он угостит присутствующих очередными виршами. Но поэта не замечали, как не замечали Волынского. Кабинет-министр отшвырнул подкатившегося с кривляниями Апраксина, вышел под взгляд государыни и низко поклонился. Анна посмотрела сквозь него, словно он был прозрачный, потом равнодушно отвернулась. Остальные продолжали заниматься своим делом. Бирон даже на мгновение не перестал полировать ногти.
Надо было что-то сказать, но горло схватило сушью, Волынский откашлялся и сипло бросил в никуда: «Квасу!»
Михаил Алексеевич поспешил исполнить приказание кабинет-министра и в избытке усердия налил ему вишневого квасу, хотя прекрасно знал, что тот признает только хлебный с хренком, об остальных отзывался презрительно: немцы в России все изгадили, даже квас.