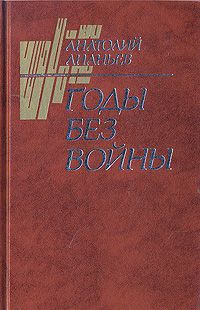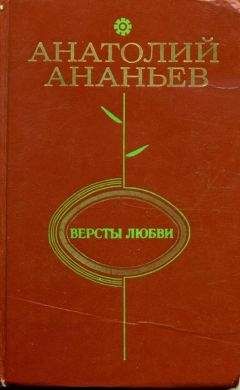Анатолий Ананьев - Годы без войны. Том первый
— Да мне пора, — сказал он, как-то вдруг, сразу взглянув на часы и повернувшись к Галине. — Да, да, пора, — подтвердил он, видя, как она странно посмотрела на него.
— Так быстро? Мы еще ни о чем не успели поговорить с тобой.
— О чем говорить, Галя, когда все в прошлом.
— В прошлом?!
— Да.
— Ты считаешь, все в прошлом? — переспросила она. Ей надо было сказать что-то другое, но она забыла, что у нее есть козырной туз — сын! — и что самый момент теперь пустить его в дело, и только смотрела на Лукина своими еще ясными, еще переполненными надежд глазами и умоляла остаться его.
— Нет, нет, не могу, — отвечая не на тот вопрос, какой она задала, а на тот, какой он читал в ее взгляде, поспешно проговорил Лукин. — Я действительно не могу, Галя, ты извини, — затем сказал он, желая успокоить ее. Он взял ее руку, чтобы попрощаться, и задержал ее. — Ты извини, так будет лучше. — И то, чего он не мог высказать словами, он старался пожатием руки передать ей.
— Но мы еще должны встретиться с тобой и поговорить. Ты не будешь возражать? — Галине важно было узнать это.
— Конечно, Галя. Но мне пора, пора.
Он повернулся, намереваясь проститься со стариком Сухогрудовым, но она задержала его.
— Не надо, — сказала она. — Он спит. Он всегда теперь после обеда спит в этом кресле.
— А где же Степанида, где Ксения Александровна?
— Они на кухне.
— Надо зайти к ним.
Но прежде чем выйти из комнаты, он кивком попрощался с Сухогрудовым и затем молча прошел на кухню.
— Все было так прекрасно, так обильно и вкусно, что я хочу поблагодарить вас, — весело начал он, увидев Степаниду и Ксению и инстинктивно почувствовав, что нельзя ему не быть веселым перед этими добрыми и гостеприимными женщинами, которые не слышали его разговора с Галиной и не могли ничего знать о нем. — Но я должен извиниться, мне пора ехать.
— Ну что же вы так, вы нас обижаете, Иван Афанасьич, — сейчас же возразила Ксения, мгновенно сообразив, что что-то, наверное, не получилось у Галины с ним и что надо помочь ей. — Уже вечер, еще чаю попьем, да и на ночь можно, дом большой, всем места хватит. Или, может быть, что-нибудь не так?..
— Что вы, все было отлично.
— Так и оставайтесь, мы будем рады. Галя, Галя, что же ты так отпускаешь гостя! — Голос Ксении звучал так же ложно, как он звучал во все время обеда; но только теперь вся ложность была настолько оголена и так очевидна, что всем неловко было слушать ее. — Галя, что же ты?!
— Нет, нет, не могу, спасибо, но не могу. — Лукин уже не улыбался и, чтобы не продолжать разговора точно так же, как он только что кивнул старику Сухогрудову, прощально кивнул теперь женщинам и направился к выходу.
Женщины — все три — вышли за ним проводить его. Ксения и Степанида остановились на крыльце и переглянулись. «Что же он так?» — было в глазах Ксении. «А как судить его, как?» — было в глазах Степаниды.
Но Галина, несмотря на поспешный отъезд Лукина, не считала, что ничего не вышло у нее. В то время как она смотрела (от середины двора, где она остановилась), как Лукин, выйдя за жердевые ворота, садился в машину, она сильнее, чем во все прошедшие минуты встречи, чувствовала, как она была близка к цели. Она не думала, отчего была в ней эта уверенность; но то, что, прощаясь с ней во дворе, Лукин опять задержал ее руку, так много сказало ей, что она не могла думать иначе, чем она думала теперь о себе и о нем.
XVII
Распорядок жизни в сухогрудовском доме был настолько устойчив, что приезд Лукина и волнения, связанные с приездом, не могли изменить этого распорядка. Особенно это относилось к старому Сухогрудову.
Проснувшись от послеобеденного сна и обнаружив, что Лукина нет, он сказал только: «Ну и скатертью дорога, и хорошо, и пусть едет», — и ушел в кабинет, чтобы появиться затем лишь у вечернего самовара. Увидев же вечером, что все за столом были в сборе, что с Галиной ничего не произошло и что сводничество не состоялось (да и не могло состояться, когда он в доме, как полагал он), он стал думать о Лукине и своем разговоре с ним. «Чувство хозяина, элеваторы, да, да, что-то он там еще городил?» — с насмешкою спрашивал он себя, в то время как хорошо помнил все подробности этого разговора. В старческом сознании его опять началась та привычная для него работа, как будто он должен был подготовиться к новой и жесткой встрече с Лукиным. Для него опять потянулись те обычные дни, когда он, перемежая завтраки и обеды с прогулками и послеобеденным сном, продолжал заниматься той своей, в сущности, бессмысленной деятельностью, от которой ждал, что она еще что-то принесет ему. Не славу, нет; он не думал о славе; он, казалось, заботился только о том, как извлечь из опыта своей прошлой работы пользу людям, и цель эта — быть полезным — побуждала его к деятельности. Он был уверен, что его позовут, что не могут не позвать, и готовился к этому. «Зачем же всем им второй раз проходить то, что прошел я? — думал он, имея в виду прежде всего молодого Лукина. — Я прошел, и я могу вести всех дальше!» И он снова, как прежде, часами просиживал за столом, всматриваясь в развернутую перед собой карту района, и хотя внешний распорядок жизни его как будто не был нарушен, мысли, приходившие теперь, после разговора с Лукиным, были иными, как если бы он вдруг, взглянув в очередной раз на поле, с детства знакомое ему, увидел, что оно было совсем не таким, каким он всегда прежде видел его.
Поле это было — народная жизнь, которую он хорошо знал, в которой вырос и от которой никогда не отделял себя; и он рассматривал теперь эту народную жизнь не в той приближенности, как раньше, когда был непосредственным участником дел и когда от его решений зависели судьбы людей и надо было быть осмотрительным ему, но видел все в том временно́м пространстве, когда в потоке людских и государственных устремлений легко можно было различить те отдельные и важные направления, которые в силу разных обстоятельств как бы выбивались из общего русла и уводили в сторону. Все рассуждения Лукина о чувстве хозяина были непонятны и неприемлемы для Сухогрудова потому, что затворничеством своим он как бы отделил себя от всех тех многочисленных и разнообразных источников общественного мнения, какие влияли теперь на Лукина; но вопрос о чувстве хозяина — вопрос этот всегда занимал Сухогрудова и был для него тем камнем преткновения, который он обычно обходил и не решался трогать. Но в то время как он не решался трогать этот камень, молодые, пришедшие за ним, он видел, безо всяких оговорок и опасений надорваться брались за него и пытались сдвинуть его. Особенно старик Сухогрудов почувствовал это в разговоре с Лукиным; и разговор этот не давал теперь покоя ему. «Но я-то и видел больше и знаю большее, так для чего же им надрываться и мучить себя, когда я могу помочь им», — рассудил он. И, разрешив таким образом перешагнуть себе через ту душевную скованность, которая всегда только мешала ему, он вдруг ясно для себя увидел, в чем было дело. «Мы бичуем собственничество, но так разогнались в этом важном для нас деле, что перешагнули черту, за которой кончается собственничество и начинает жить обычное житейское чувство хозяина!» Он увидел ту опасность нахлебничества, какая уже начала проявляться в деревне, когда люди отказывались от всякого домашнего хозяйства (и от приусадебного огорода), так как это представлялось им собственничеством, и, вместо того чтобы что-то еще подавать на общественный стол, садились за него и, в сущности, полностью переходили на обеспечение государства. Он как бы в перспективе увидел, что еще только-только выбрасывало ростки над землей, но могло, если не принять мер, превратиться в такое положение, когда не в город, а из города мужик будет возить молоко, яйца, мясо к себе в деревню; он видел в этом государственную проблему и думал, что отбить у человека охоту заниматься домашним хозяйством (что всегда было и будет подспорьем для семьи) не так уж трудно, но что потребуются затем годы, чтобы привить ему снова это желание. «Так что же это, если не нахлебничество?» — думал он. Он чувствовал, что надо было если выступать теперь, то выступать по этому коренному вопросу, и весь был поглощен разработкой его.
Он старался записать то, что он думал; но всякий раз, как только начинал делать это, сейчас же замечал, что то, что было логично и складно в уме, было нелогично и нескладно на бумаге и что исчезало что-то такое, что он ясно понимал и чувствовал, но что, он видел, невозможно было передать словами, чтобы так же ясно чувствовали и понимали другие. На бумаге (вместо жизни) получался сухой документ, который не только не представлялся бесспорным, но был, казалось Сухогрудову, и не ко времени, и уязвим, и неточен. Разрешив себе мыслить по-новому, он еще не мог разрешить себе так же свободно излагать на бумаге эти свои новые мысли и, не вполне сознавая, что мешало ему, мучительно старался преодолеть стоящий перед ним барьер, был сосредоточен и, как всегда, не замечал, что происходило вокруг него в доме и занимало Степаниду и Ксению.