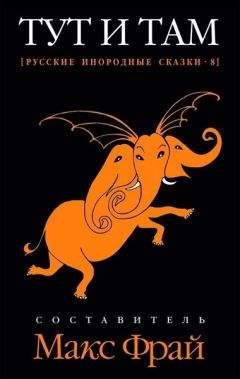Иван Акулов - Касьян остудный
Егор Иванович встретился с мужиками на крыльце. Влас Игнатьевич и тракторист были трезвы, а Сила Строков на крепких свежих дрожжах. Узнав Якова, полез обниматься, а сев в телегу, то и дело опрокидывался, хватался за Умнова обеими руками и припадал к его плечу.
— Яков, много не брякай. Заберись в алтарь и весь день болтай. Яша, Валька-то моя вывела — вершал. Ты к ней придешь — ошшупат: что завелось, скажет. Как вывести — тоже скажет..
— Ты дай человеку посидеть, — одернул Бедулев Силу. — Ну чего виснешь-то?
Тем временем Влас Игнатьевич крутил под радиатором рукоятку, и трактор на третьем разе, дернувшись, чихнул керосинной гарью, суетно застучал, из-под задних колес его повалил сизый чадный дым. Из харчевни выбежали мужики, бросились к своим лошадям, которые уже заплясали у коновязей, натягивая поводья. Тихон, все так же босый, накинул на глаза своего молодого меринка сермягу и держал его под уздцы.
Попыхивая дымком, трактор выбрался на дорогу и побежал, сверкая новыми шипами и печатая на колее две частых лесенки.
Сила, держась за Умнова, слепо тыкал гнутым пальцем под ноги Егора Ивановича и тихонько всхохатывал с жесткой пьяной откровенностью:
— Яша, а Егор-то Иваныч сидит на твоем месте. В строгости весь. И морду нажевал. Бороденка у Егора, помнишь, была — пыль, пошшупать нечего. А ноне обжировела, висе-елая бородка. Ха-ха.
— Ломали голову-то, кого посадить, да кого посадить, — сказал Влас Игнатьевич Бедулеву и кивнул на Якова Умнова: — Вот ему и место. Грамоты хватит, поведения трезвого. А?
Егор Иванович ничего не ответил, только сделал вид, что задумался, а на пароме, когда переправлялись через Ницу и оказались в сторонке от мужиков, упрекнул председателя колхоза Струева:
— Ты не подумал своей головой, а судишь. Человек который с судимостью, а мы его — на артельный трактор в доверенность. Кто нас поймет? Район по голове за такое место не погладит. Борис Юрьевич обоих нас упечатает. Тадысь велику ли ему машину дали — и ту он не уберег. Посеял. А ты — трактор.
Председатель колхоза Влас Игнатьевич Струев промолчал.
XIV
Машка влетела в избу, едва не сорвав дверь с петель, пала на лавку и бросила руки на колени:
— Ой, пляши, Любава. Ни черта не скажу пока.
— Небось посылка от тетки Агафьи?
— Лучше.
— Харитон что-нибудь? А? — и веселея, и пугаясь, и не веря Машкиной радости, Любава замирала от нетерпения. — Он, что ли?
— Лучше, лучше. Яшка твой приехал. Своими глазами видела. Трактор пригнали, и он с ними.
Любава вдруг нахмурилась и побледнела, сердце у ней опустилось и смолкло, сама она почувствовала такую слабость, будто ее подсекли под коленями. Однако мигом взяла себя в руки, оправилась, только сильную тревогу, вспыхнувшую в глазах, погасить не сумела и, зная, что глаза выдали ее перед Машкой, уже не таилась:
— Ты уж вот так прямо: твой Яшка?
— А то нет?
— Да ты-то, Мария, как про то вызнала?
— Любавушка, миленькая, ведь это только кажется, что мы заперты от людей, а на самом-то деле все на виду. На ладошке вроде. Нешто я слепая? Я и то, Любавушка, знаю, ты как вроде к нему и не вся совсем, а ждешь.
Любава пошевелила бровями, и Машка поняла ее согласие, сронила с головы на плечи платок, плюшевый жакетик свой на груди расстегнула.
— Давай сядем, Любава. Я давно собиралась сказать. Давай посидим. Я, Любава, может, и дура, да ты послушай дуру-то. Связно, может, не скажу, а душой чую и молюсь за тебя. — Машка перекрестилась, и на глазах ее блеснули слезы умиления. — Мы все о скотине да о хлебе, о дровах, а душа мрет. Сядь. Сядь тутотка.
Они сели к столу, облокотились в четыре локтя, Машка какая-то решительная и порывистая, а Любава задумчиво-сосредоточенная.
— Я не сама, Любава, выдумала, а верую, и ты поверь. Судьба, значит. На всякую душу родится только одна душа. Нареченная. Ищут они друг друга, не могут один без другого и сливаются. Будто и слились, а выходит, разделились. И сколько бы ни сливались, все как бы разъединяются. Счастье, Любавушка, слиться, а того больше, когда опять всяк по себе, а промеж — третья душа. Больше ничего нету на белом свете и незачем выдумывать. Ты поняла ли, о чем я говорю-то?
— Мутно у меня, Марея. Все как-то неясно. Да ты говори. Что-то и пойму.
— Строгая ты по части людей и к себе мысленная, оттого и туманится твоя головушка. А я, чтобы с места не сойти, просватаю тебя. Сама ты до седого волоса прынца ждать будешь. А они ноне совсем перевелись. Яков, скажу тебе, и в Совете сидел — не то что Егор-балаболка. Яков, он тоже мысленный. И пострадал-то, может, понапрасну. Хоть и туман, говоришь, в твоей голове, а понять опять же пойми: легкая-то жизнь только дуракам достается. Кого полюбит бог, того и наказывает. Бог метит избранных. А ты сама мало пережила, мало перемучилась? Сострадание уж давно ведет вас друг к другу. Ты присмотрись к нему, к Якову-то. Я и раньше злого слова от него не слыхивала. А ленца была, так небось вышибли. Да с тобой шибко-то не заленишься. Ты, как твой покойный батюшка, спать не положишь. Вот и вышло, чтобы пакостей ему ты не говорила, а приветила бы да была обходительна. А коли не по-моему сделаешь — веки вечные я не знавала тебя.
Хоть и строго закончила Машка свою речь и даже по столу кулачком пристукнула, но Любава не только не осердилась на нее, а, наоборот, повеселела от ее усердных слов.
— Машка, будь ты живая, не из тучи гром. Кто тебя обучил такой премудрости? Как по-писаному. А сделаю, Марея, все-таки по-своему. Как? Пока и сама не скажу. Но решу, не передумаю. А хорошо сказала о человеке, спасибо. Я тоже добро за ним понимаю и без того буду ждать: ведь он небось и весточку от Харитона привез.
— Мне бы, Любава, определить тебя к месту, и было бы мое сердце на спокое. Он ничего из себя. И одет. Усы бреет. На мужика совсем походит. То все был вроде жиденький какой-то. — И Машка лукаво засмеялась: — Руку мне подал. А чего сказал, не поняла. Завтра хлеб будут давать на нашей мельнице. — Машка все кадушкинское по привычке называла своим. — Не больно-то сулят. Поглядим, что он нам, колхоз-то, отвалит.
— Всю страду на сдатку возят, там, может, ничего уж не осталось.
— Кто знает, может, и не осталось.
— Давай-ка избу-то приберем, да и во дворе бы вымести.
Они обе, живя предчувствием необходимой радости и близких тревог, в молчаливом согласии взялись выхлопывать половики, протирать стекла, заменили на окнах занавески. Машка, подбеливая известкой чело печи, вдруг вспомнила:
— Я, Любава, скажи, вовсе и забыла: ведь Фроська Бедулева вчерась была. Тебя спрашивала. Я только-только подоила корову. Гляжу — она. Оглядела, это, она стены, потолок, печь, ну все как есть, скажи, да и в слезы: боже мой, какую избу бросили. Это все он. Замаялась-де с ним, с окаянным. Ему что, он выспался, да и был таков на весь день. Жучат табак по конторам. А я майся. Нешто под силу одной обиходить всю эту кадушкинскую хоромину. Нагородил бездельник, Федот-то Федотыч, значит. А здесь-то было — какое благолепие. Мало одного этажа, взяли моду двоетажные. Веничком, бывало, махну, и чистенько да уютненько. Все-то на глазах, все-то под рукой, а там, по этим проклятым горницам, ребятишки растаскают все — чего хватишься, того и нету. И снуешь день-деньской то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, тьфу. Вчера до полдня шабалу искала, а они, скаженные, заволокли ее в маленькую спаленку — пойди сыщи. Кажин день ревмя реву. Всю свою головушку разревела. Отдохнуть прилягу — встать невмочь… А сама во! — ступа, — Машка бросила мочальную кисть на шесток, округлила свои руки перед собой, потом повернулась и показала, какой у Фроськи зад: — Туда чугун с водой ставь — не опрокинется. — И передразнила Фроську: — Прилягу — встать невмочь. Ступа, ей-бо, где ж встать.
Машка так захохотала, что начала притаптывать, а потом взяла кисть и, выхаживая ею вдругорядь по сырым, еще не просохшим кирпичам, приговаривала:
— Да уж такая наша доля — хуже жить не будем.
— Бедовая ты сделалась, Марея, — тоже весело вздохнула Любава и, обтерев тусклое настенное зеркало, нечаянно увидела себя в нем, высоко вскинула густыми черными бровями, хотела улыбнуться, да вместо этого жестко осудила себя: «Нате вам, готова выпелиться. Одно слово — дрянь». Машка перехватила в лице Любавы погашенную улыбку и позавидовала ее строгой прелести.
— Мне бы так-то. А то что ж, кто кивнет ласково, тому и отдала.
— Да уж так и отдана. Что наговариваешь-то на себя? Это тоже грех.
— Вот и выходит, хоть так, хоть эдак, а греха не минуешь.
— Ты вот, Марея, наговорила о нем, наговорила, он теперь из ума нейдет. И выходит, не согрешивши, грешна я. Батюшка, помяни его господи, враз бы дал укорот, а у самой ни ума, ни воли.
— Да при чем тут батюшка. Промеж вас с Яковом, может, бумажки не продернешь, а ты о батюшке. Дядюшка Федот, не тем будь помянут, не монахом прожил.