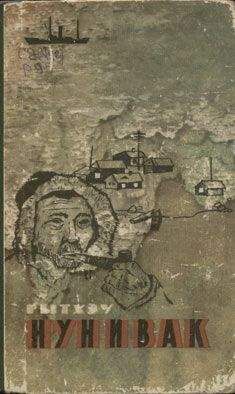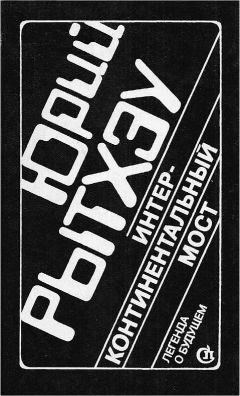Юрий Рытхэу - Полярный круг
Кэу принял из дрожащих рук Тин-Тин деревянное блюдо с жертвенным угощением и вышел из яранги.
Усилившийся ветер кинул отросшие волосы непокрытой головы на лоб, закрыл взор, но Кэу хорошо знал, как нужно встать. Поначалу он стоял лицом к Восходу. Оттуда начинается рассвет, и именно на этом краю небосвода Птица-Провозвестница каждое утро проклевывает сначала маленькую дырочку, в которую начинает сочиться утренняя заря, а потом расширяет ее, чтобы Солнце могло выйти из своего убежища и осветить землю.
Зимой Птица-Провозвестница слабеет и долго трудится, прежде чем выклевывает широкую дыру, достаточную для опухшего, замерзшего, красного зимнего солнца… То ли дело весной и летом! Солнце полно силы, и бывают такие дни, когда оно не уходит за горизонт, — едва коснувшись нижней кромкой диска воды, оно снова взмывает в небо.
Одарив священным угощением и Юг, и Закат, и Север, и Восход, Кэу возвратился в жилище и взял нагретый и смоченный бубен.
Сначала тихий звон поплыл по дымным волнам, поднимающимся над костром, выплеснулся в дыру в крыше и растекся, растворился в полном ветра пространстве.
Эта песня своими истоками уходила в сумерки изначальной жизни морских охотников, и некоторые ее слова и намеки не были понятны. Но почему-то именно эти строки и казались обладающими наибольшей силой, воздействующей на богов.
Ветром полно все вокруг, упругим и сильным.
Ввысь возносится лоскут белой нерпичьей кожи,
И солнце, застыдившись вечной своей наготы,
Укрывается им, накинув его меж лучей…
Все живое уходит в норы свои; избегая ненастья,
И лишь человек в наступающей тьме ищет просвет,
Ибо вечная тьма — это гибель ему…
Обиталище разума, вечно движущегося
По Вселенной, меж звезд и земных камней,
Он мечется, не зная своего предназначенья,
И с неответным вопросом уходит в Пространство…
Но дай человеку исполнить назначенное ему на земле,
И если воля твоя такова — не будем громко роптать.
Пины слушал, запоминая каждое слово, и, чувствуя щемящую боль в груди, видел, как катится по темной, освещенной отблеском костра щеке Тин-Тин искорка: это в прозрачной слезе отражался огонь.
5Трудно сказать, сколько просидел Гойгой на краю льдины, оцепенело уставившись на медленно скрывающийся в пелене надвигающегося тумана удаляющийся берег. Все словно остановилось в нем, и даже в ушах не слышен шум крови. Не было даже мыслей. Иной раз Гойгою казалось, что весь он чужой самому себе, а мысль покинула его тело и заблудилась, исчезла, растворилась, унеслась с ветром.
Вокруг все стало серо-белесым, словно и не было яркого солнца, сверкающего льда, играющего отраженными бликами водного зеркала. Окрестность обрела унылое однообразие, и даже шум стал ровным, плоским, сплошным.
Вместе с серым настроением внутрь тела пробирался серый промозглый холод, охватывая сначала конечности, а потом грудь, спину, каким-то образом просачивался во внутренности, в самое сердце.
Гойгою казалось, что он видит сторонним взглядом, рассматривает сам себя издали, сочувствуя охваченному горем и отчаянием человеку у края обламывающейся льдины. И этому стороннему наблюдателю приходила мысль: если человек так и будет оставаться в оцепенении, он может замерзнуть, навеки закоченеть.
Гойгой встрепенулся и встал.
Мучительно было расправлять закоченевшие суставы, шевелить омертвевшими пальцами рук и ног.
Но Гойгой двигался, сжимая зубы до скрипа, терпя боль. Да, он не боится смерти, но время еще не пришло для нее. Он только вкусил от настоящей, подлинной красоты человеческой жизни, обрел и понял смысл существования человека на земле — и вдруг уходить? Туда, в небытие, в мир, расположенный в окрестностях полярного сияния?.. Еще рано. То не предвестие смерти посылает ему судьба, а испытание: достоин ли он великой радости и любви, что обрел, соединившись с Тин-Тин?
Еще может перемениться ветер и пригнать льдину к берегу.
А пока — надо терпеливо ждать и всеми силами поддерживать в себе жизнь, чтобы предстать перед глазами Тин-Тин не жалкой жертвой, а победителем!
Гойгой вернулся к добыче, подтащил тушу лахтака и нерпы к середине льдины, к тому месту, которое показалось ему прочным. Исследовал остаток ненадежной тверди, измерив ее шагами вдоль и поперек, и понемногу успокоился. Льдина была невелика, но прочна. Это не обломок только образовавшегося в этом году молодого льда, а старого пака, который дрейфует из года в год, следуя ветрам и течениям полярного моря.
Правда, ветер усиливался и холодные волны раскачивали льдину, словно кожаную лодку.
Гойгой освежевал туши нерпы и лахтака, снял с них шкуры вместе со слоем жира и устроил из них подобие ложа. Это, конечно, не мягкая оленья шкура, но сквозь жир морского зверя уже не проникнет ледовая стужа. Еды надолго хватит, воду можно добывать на этой же льдине — торосы на ней давно обветрились и потеряли почти всю морскую соль… Остается терпеливо ждать.
Хотя солнце в это время года и ненадолго опускалось за горизонт, но по времени уже была пора сна — Гойгой чувствовал это по неимоверной усталости, по сухому жжению в глазах.
Он уселся на растянутые на льду шкуры и смежил веки.
Сначала ярко, словно наяву, перед закрытыми глазами возникло лицо Тин-Тин, подняв со дна успокоенной было души воспоминания. До острой боли в груди Гойгой пытался удержать ее образ, но он исчезал, скрываясь в хаосе нагромождающихся друг на друга мыслей…
Что там, в стойбище? Что подумали братья, не дождавшись его возвращения? Исполнили ли они священный обряд перед богами?
Потом вдруг мысли обратились к прошлому, к рассказам, в которых говорилось о попавших в беду охотниках… В этих повествованиях было мало веселого. Тот, кто избегал гибели и возвращался в стойбище после долгих и тяжелых приключений, обычно не склонен был распространяться о своих переживаниях. Самые подробные и красочные рассказы были о тех, кто никогда не возвращался, кто навеки остался в пучине морской или замерз в пургу.
Гойгою довелось не раз слышать о том, что, согласно древнему обычаю, если охотники оказывались в воде во время байдаркой охоты, старейший и самый опытный умерщвлял тех, кто еще мог держаться на воде, чтобы избавить их от дальнейших мучений.
Но чаще всего рассказывалось о тех, кого унесло на льдине.
Они плыли долго в открытом море, испытывая лишения и голод, истощаясь от холода и страданий. Иные попадали прямо в иной мир, возносясь сквозь облака в окрестности полярного сияния, в обиталище умерших. Другие высаживались на неведомые земли, где царило вечное тепло, где море никогда не замерзало и ласково плескалось у берегов. Высадившийся на сушу морской охотник долго блуждал по заросшему высоченной травой берегу, среди неведомых растений и деревьев, убегая от преследовавших его диких зверей, пока не натыкался на людей. Но язык чужеземцев был иной, и они не понимали невольного пришельца. Бывало, что они убивали его, а иногда обращали его в бессловесного раба, селя его рядом с собаками.
Бывали среди несчастных и удачливые. Они высаживались в сказочном краю вечного лета и вечного счастья. Их встречала на берегу неземная красавица, которая тут же становилась женой и вела охотника в просторную ярангу, кормила лакомствами… Рождались дети, старел чудом спасшийся охотник, но в сердце у него все равно жила память о покинутом стойбище, о близких и родных… Такой чаще всего умирал от тоски по родине.
Более всего было страшных рассказов о тех, кто, претерпев лишения и голод во льдах, дичал и обращался в тэрыкы-оборотня… Даже если он и высаживался на берег, он уже не мог жить среди людей. Обросший шерстью, озверелый, он бродил вокруг стойбищ, воровал мясо, убивал тех, кто попадался ему на пути… Это самая страшная участь, какая могла постичь унесенного в море охотника.
Думая обо всем этом, Гойгой окончательно потерял сон. Он встал со шкур и отправился на край льдины взглянуть в сторону скрывшегося во мгле берега.
Гойгою показалось, что ветер изменил направление. В эту пору изменчивости природы такое часто бывает. Может быть, там, на берегу, старший брат Кэу умолил богов проявить милость и позволить Гойгою спастись?
Если бы это было так!
А почему нет? Ведь на берегу его ждет Тин-Тин!
Гойгой снял с головы малахай. Спереди, в коротко обстриженной шерсти виднелась полоска замши, окрашенная охрой. На нее Тин-Тин нашила оленьими жилами дырчатый камешек, чтобы вдали Гойгой мог вспомнить ее, сняв с головы малахай. Сами по себе полоска замши и камешек ничего не значили, только то, что они были нашиты Тин-Тин. Но если бы Гойгою надо было расстаться с малахаем, он оторвал бы от него кусочек крашеной кожи с камешком, который для него дороже всего на свете сейчас в этой серой, сырой пустоте, наполненной упругим, живым, враждебным ветром.
![Юрий Рытхэу - Люди нашего берега [Рассказы]](/uploads/posts/books/134656/134656.jpg)