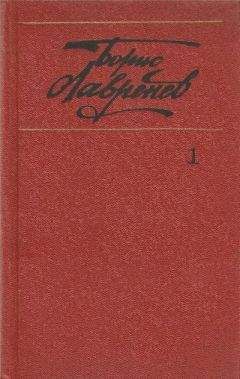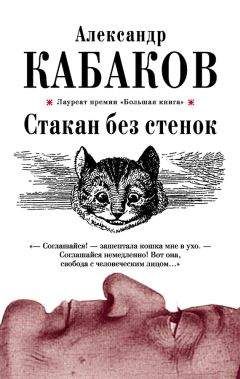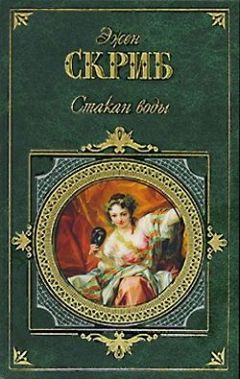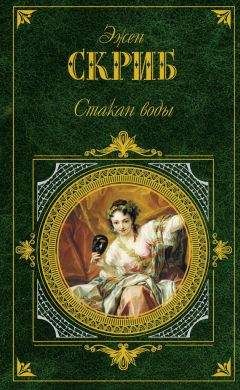Борис Лавренёв - Собрание сочинений. т.2. Повести и рассказы
Часовой помолчал, задумавшись.
— Главное, что прилетел ты, — продолжал он задушевно. — По правде сказать, у нас паники ничуть не было. Народ сплавился, крепкий. На четырнадцать душ девять партийцев, а профессор хоть и беспартийный, а в доску свой старик. Организация сразу пошла, как в армии. В то, что нас в беде не оставят и на смерть не кинут, верили и не сомневались, потому что наша же власть нас послала. Только брало раздумье, как выручать станут. Думали, ледокол пошлют, а ему тяжко. Льды в этом году трудные — пока дойдет, может, не все дождутся. Потом приняли рацию насчет самолетов — легче стало. Сидеть тут не страшно, а больше скушно. Дни, часы уходят, дела никакого нет. От этого думы иногда разыгрываются. Вестей с земли мало, всего только, что рация в день наслушает, аккумуляторы беречь надо. А думы, сам понимаешь, об чем. О своих, кто на большой земле остался. У каждого есть. За себя не болеешь, а за них смутно становится. Конечно, крепко себя держишь на вожжах, понимаешь, что сдавать нельзя. Жизнь тут такая — все за одного, один за всех. А все же иногда отойдешь втихомолку в сторонку и зубами поскрипишь. Потом опять себя урезонишь и ждешь спокойно. Только вот когда услышали — гудет небо и птица твоя голубая над нами облака режет, — оборвалось. Всякие я виды видел. В контрразведке сидел, и спину мне шомполами ободрали, а такого смятения со мной не было. Будто под коленки ганшпугом ударили. И бежать тебе навстречу хотелось, и ноги подкашивались. Пять раз падал, пока добежал. И не то что спотыкался или поскользался, а вот от мурашек этих под коленками. Ударит — и сядешь. А когда добежал, чувствую — слова выжать не могу. Только смотрю, как ты у машины стоишь, на ногу сломанную уставился и тоскуешь, словно жена у тебя померла. А мне весело. Чего, думаю, тоскует? Прилетел, и ладно, а с остальным вместе уже управимся. Будь я на твоем месте, тут же на льду в плясовую пошел бы. Прямо тебе скажу — хоть и молод, а герой!
— Какой же я герой? — смятенно спросил Мочалов. — Не смог посадку сделать толком, самолет завязил, сам завяз и вам три лишних рта прибавил. Хорошо геройство!
— А знаешь, что я тебе скажу, — часовой, придвинувшись, опахнул щеку Мочалова теплом дыхания из-под обмерзших усов, — ты плюнь на это. Не в том геройство, что ты меня в кресло посадишь и домой отвезешь. Это всякий сумеет. А вот что ты для братского долга летел в нашу могильную дыру, о себе не думая. И все мы понимаем, что за всю нашу землю ты долг исполнял. Такого дела ни одна держава не сделает. С ихней точки зрения, для четырнадцати людишек надрываться смыслу нет. Может, все мы, выключая профессора, одного самолета не стоим. А наша власть иначе думает, хотя ей самолет, может, дороже, чем какой-нибудь Америке, стоит. Наша власть людей, как собак, не кинет, и ей за добро каждый жизнь отдаст. Прилетел ты, и теплом на нас повеяло. Дай обниму тебя.
Мерзлые усы ткнулись в щеку Мочалова.
Это целовала его простым и братским поцелуем страна. Целовали те, кто беззаветной своей кровью и безмерным страданием отстояли для него счастливую родину. Кто заботливо, нежно и настойчиво снимал его с поездных площадок, из-под вагонных ящиков, мыл, чистил, учил видеть, слышать и жить. Кто из беспризорного волчонка вырастил военного летчика Мочалова, читающего Диккенса по-английски и Гельдерса по-немецки. Кто сменил в его сердце едкую гарь волчьей ранней озлобленности на всех людей пламенем любви к угнетенному человечеству и подарил ему и его освобожденному поколению недостижимое раньше право знания, роста и труда.
Он взволнованно молчал, боясь, что голос изменит и сорвется слезами.
Так они постояли молча, крепко держась за руки, как дружные ребята-однолетки. С трудом возвращая твердость голосу, Мочалов сказал:
— Ну, ладно… Я пойду.
Часовой выпустил его руки.
— Ступай, — обронил он, — отдыхай. Небось перетрясся. Надо тебе устояться. А насчет прочего, говорю, не тревожься. Сделаем. Если ты нас домой доставить должен, так и мы тебя Красной Армии в целости сдать обязаны.
Мочалов пошел к палатке. Пройдя несколько шагов, оглянулся. Часовой темной вешкой маячил в поземке, неподвижный и строгий.
И от этой четкой строгости его силуэта распались сомнение и тоска, отступая перед возвращающейся полнокровной молодой уверенностью. Он с размаху перепрыгнул выступ льдины, поскользнулся, брякнулся всей спиной в снег и, лежа, громко расхохотался, как будто в метельном небе увидел что-то очень смешное.
14— Блиц, перестань… Тебе же нельзя двигаться. Не сходи с ума!
Блиц, сидя на койке, упрямо вырывал руку, за которую его держал Марков.
— Оставь… пусти! — вскрикивал Блиц. — Это я… я виноват… если б летели вдвоем… ничего… не было б!
— Ну, рассуди здраво, при чем тут ты? — сказал Доброславин, подымая с полу брошенную Блицем радиограмму с льдины об аварии Мочалова. — Ты пойми. Он же сообщает: «Сорвал лыжу при посадке, случайно задев за выступающую льдину». Кто же мог это предусмотреть? Садились бы мы вместе с ним, могли бы оба обломаться. И ничего непоправимого нет. «Надеюсь исправить лыжу средствами лагеря, немедленно приступить вывозу первой партии. Настроение отличное. Саженко, Митчелл шлют привет». Видишь?
— Да я ж… его… знаю, — сказал Блиц, мучительно сморщивая незабинтованную верхнюю часть лица от боли в надтреснутой челюсти, — я его… знаю… Голову потеряет… ногами будет сообщать — «настроение отличное». Это… чтоб мы… не волновались. Нужно… лететь на помощь… Как самолет?
— Самолет послезавтра будет в порядке, как только из Нома винт доставят. Плоскость уже залатана. Только никуда ты не полетишь, — сказал Доброславин, — нечего дурака валять. И я не сумасшедший с инвалидом лететь, и самолета ты не получишь. Хочешь лететь, вставь себе перья и лети.
— Дурак! — окрысился Блиц.
— Это как вам будет угодно, товарищ командир самолета, — поклонился Доброславин.
— Марков, скажи же ему… я имею право… приказать… или нет?
Но Марков сосредоточенно смотрел в окно палаты на сияющий под солнцем уличный снег и не отвечал.
— Приказы начальника, отданные им в явно болезненном состоянии или в состоянии опьянения, могут не исполняться подчиненными, — заметил Доброславин.
— Честное… слово… как встану… измочалю, — погрозил Блиц.
Он сморщился и опустился на подушку.
— Болит? — уже участливо и с тревогой спросил штурман.
— Болит… проклятая, — с трудом выговорил Блиц и замолчал.
— Вот видишь. Куда же тебе лететь?
— Я и сам… понимаю… А хочется… и нужно, — тихо и грустно вымолвил Блиц и закрыл глаза.
Марков продолжал смотреть на улицу. Доброславин покосился на него. Неподвижность и сосредоточенность Маркова показались ему ненатуральными, нарочитыми, как будто Марков старался сделать вид, что не слышит или не хочет слышать разговора. Доброславин даже нарочито кашлянул, но Марков не шевельнулся.
Неожиданно Блиц открыл глаза и засмеялся.
— Ты что? — спросил Доброславин.
— Я думаю… вот утрет нам нос Мочалка… если вывернется сам. Вот утрет… А я башку даю… вывернется. Он такой… На одной лыже… улетит.
— Ну, брат, дудки! На одной лыже до сих пор никто не летал.
— А он… улетит, — упрямо сказал Блиц. — Вот срам… нам будет. Фига с маслом.
Он посмотрел на неподвижную спину Маркова, и Доброславин поймал в зеленоватых добродушных зрачках Блица жесткий и злой блеск.
— Прилетит и скажет… ну, вы, инвалиды… отвести вас, что ли, в богадельню, больше вам некуда… деваться.
Блиц не сводил глаз с Маркова и увидел, как вздрогнули его неподвижные плечи. Эта дрожь, казалось, доставила Блицу удовольствие, он сморщился в улыбку.
— Выхлопочет пенсию… в собесе… по выходным дням будет… тянучки возить. Мне «Коммунистический манифест»… подарит… взамен выброшенного. А Маркову… пилюли для… омоложения.
Доброславин испуганно взглянул на Блица, потом на Маркова.
Марков повернулся от окна, подошел к постели и протянул руку Блицу.
— Будь здоров, — сказал он и быстро вышел.
— Зачем ты так? — спросил Доброславин, недоумевая, впервые видя Блица озлобленным и беспощадным. — Он ведь обиделся.
— Я этого и хотел, — сухо ответил Блиц. — Иди и ты. Я хочу отдохнуть.
Он повернулся к стене и подтянул одеяло. Доброславин постоял еще минуту, ожидая. Но Блиц лежал так же нарочито напряженно, как за минуту до этого стоял у окна Марков, и Доброславин понял, что он не хочет больше разговаривать и разговаривать не станет. Он вздохнул и направился к двери.
15— Летим, Митчелл. Летим! — сказал еще издали Мочалов, подходя к самолету. — Вижу, что вы этого не ожидали.
Пит с удивлением и недоверчивостью ощупывал новую стойку, сделанную лагерниками.
Эта работа протекала на его глазах и была для него самым большим чудом, которое ему пришлось видеть в жизни. Пять суток распиливали хилой ручной пилкой, предназначенной для мелких столярных поделок, а затем обтесывали топором, резали и долбили матросскими ножами отрезок тяжелой стеньги погибшего судна. На первых порах Пит криво и сердито усмехался, наблюдая это бесполезное занятие. Дерево стеньги было сухо и твердо, желтовато-маслянисто, как слоновая кость. Ножи едва царапали его верхний слой. А нужно было не только острогать, но вырезать сложные выемки и просверлить отверстия для болтов. Попытка делать эту работу такими инструментами казалась Питу маниакальным бредом.