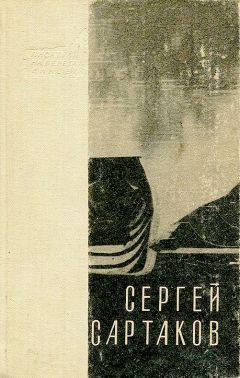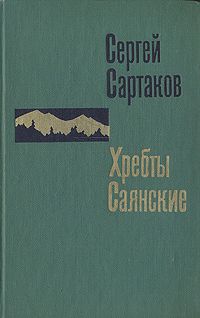Сергей Сартаков - Горный ветер. Не отдавай королеву. Медленный гавот
— То есть?
— Володька Мухалатов женат на Жанне д’Арк! Фантастика! Не только братьям Стругацким — самому Жюль Верну такого не придумать.
— Но ты ведь любишь ее!
— И этого братьям Стругацким не придумать. С чего ты взял?
— Ну… ну… Я же знаю, я вижу, как Римма влюблена в тебя!
— А-а! Это другое дело. Вот это братья Стругацкие могут придумать. И может быть, даже старик Флобер с нее написал «Госпожу Бовари»?
— Да как ты можешь так…
— Слушай, Сашка! — остановил его Мухалатов. И Маринич понял, что при всей напускной легкости своего тона Владимир говорит вполне серьезно. — Ты можешь, конечно, и методом вопросов и ответов выяснить интересующую тебя истину, но я готов пойти тебе навстречу и сделать эту операцию гораздо короче. Мне прятать нечего. Вообще. И тем более от тебя. Это вошло бы в противоречие с только что провозглашенными мною принципами.
— Не балагань, Володя!
— Ты жаждешь истины. Она слагается из четырех пунктов. И первый, главный пункт: Римму я никогда не любил, не люблю и любить не буду. Это с моей стороны высоконравственно по отношению к таким девушкам, как Жанна д’Арк. Пункт второй. Римма Стрельцова, возможно, была и влюблена в меня, в данную минуту — не знаю, но уже завтра, бесспорно, любить меня она не будет. И это с ее стороны тоже высоконравственно, ибо нельзя Жанне д’Арк любить какого-то паршивца. Как видишь, все идет нормально. Третий пункт. Под созвездием Андромеды я охотно уселся и болтаю с тобой потому, что в это время в кафе «Андромеда» Римма Стрельцова сидит за чашкой уже совершенно остывшего кофе и ждет меня. А я не приду. Не приду потому, что это самый лучший и самый надежный способ закончить все высоконравственно. Иначе для достижения того же самого результата пришлось бы истратить миллионы и очень пышных и очень нищих слов. А как бы дешево ни стоили любые слова, в наш век всеобщей экономии нельзя пренебрегать и такими пустяками.
— Не понимаю…
— И пункт четвертый, — Мухалатов вытянул руку и посмотрел на свои часы со светящимся циферблатом, — пункт четвертый заключается в том, что уже довольно скоро я должен буду расстаться с тобой, подняться вновь на самую высшую точку Москвы и встретиться там с возможной своей будущей женой.
— Володя!
— Не восклицай разгневанно и удивленно. Быть может, я еще и не женюсь на Ларисе, да, да, той самой официантке из «Андромеды», но если женюсь, так что же — это вполне в порядке вещей. «Пора, мой друг, пора!» — как сказал по сходному поводу, только в иное время Александр Сергеевич Пушкин. Мне кажется, ты и сам был готов жениться на Лике Пахомовой. Чему же тогда удивляться?
— Не понимаю, Володя, я ничего не понимаю, — растерянно повторял Маринич. — Ты просто дурачишь меня.
— Серьезнее этого я вообще говорить не умею, таким меня мама родила, — сказал Мухалатов. — Но я угадываю, в каком именно месте у тебя в мозгах получилось короткое замыкание. Почему не Римма, почему — Лариса? Так?
— Если ты действительно говоришь всерьез — конечно.
— Не Римма потому, что она мне надоела, как надоедает, наверное, рисовая каша. Она бела, красива на вид, зернышко к зернышку, полезна, хороша и к праздничному столу и в будни, идет в пирожки с яйцами, подходит в рыбный пирог, на гарнир к вареной курице и в поминальную кутью. Словом, куда угодно. Первоклассная вещь! А я люблю обыкновенную картошку. Она тоже — и в суп и в борщ, годится с курицей и с селедкой. Но такого интеллигентного вида, как у риса, от картошки не требуется. Ее можно резать ломтиками и жарить, можно сварить целиком и даже в мундире, можно истолочь. Жареная пригорит — не беда, своеобразный привкус; в пюре черный глазок попадется — тоже не страшно, можно пальцем выковырнуть. Вот и вся нехитрая аллегория. Вот и ответ тебе, почему не Римма, почему — Лариса. — Он опять посмотрел на часы. — К тому же Ларисе и куда труднее живется с ее вообще-то превосходным малышом, но которому все-таки лучше именоваться, допустим, Евгением Владимировичем, нежели Евгением Ларисовичем, как обозначено в метриках малыша сейчас. Отец-мотылек даже об этом не подумал.
— А ты — не мотылек? Ты подумал, Володя? Ты обо всем подумал? — закричал Маринич.
Мухалатов медленно повернул голову направо, налево, прислушался. Сказал ворчливо:
— Здесь, правда, не очень громкое эхо, но все же отдается. Ты можешь регулировать силу своего голоса? Тебя интересует: обо всем ли подумал я. Если исходить из постулата бесконечности пространства и времени, обо всем подумать невозможно. А в том смысле, в каком ты заорал на меня, подумал. Я не уверен, может или не может быть у меня от «Не Может Быть» ребенок, но от Риммы, полагаю, не будет. Моей любви к ней для этого было, как я представляю, маловато, а ее любви ко мне — уж слишком много. Таким образом, эпитет «отец-мотылек» в наших отношениях с Риммой вряд ли возможен. Что еще ты собираешься мне поставить в вину?
— Но ты же держал себя с ней так… Я же сам был свидетелем… Ты влюблял ее в себя!
— «Влюблять в себя…» — медленно, как бы рассматривая на свет каждый слог, повторил Мухалатов. — Это очень похоже и на такие словосочетания: «умереть человека», «проснуть мальчика» и так далее. Ну, допустим, сама Римма действительно могла в меня влюбиться. Потому я и сижу сейчас под созвездием Андромеды, а не в одноименном кафе. «Влюблять» же в себя, согласно Михаилу Юрьевичу Лермонтову, умел только Печорин. Девушки нашего времени к черту пошлют любого Печорина, который вздумал бы их «влюблять в себя»! Уж если быть тому, так девушка и сама сумеет влюбиться. Что как будто и сделала Римма, и, как я уже определил, совершенно напрасно.
— Ты так спокойно, так издевательски рассуждаешь об этом!
— Просто моя обычная манера, ты и сам хорошо знаешь. А что я спокоен — я и должен быть спокоен. Небо не упало. И не упадет. Единственное, Римме сегодня поздно ночью придется возвращаться на дачу без провожатого. Но это ей приходилось делать всегда и раньше, до знакомства со мной. Притом это вполне безопасно, горят фонари, а иногда на платформе даже дежурит милиционер.
— Это цинично, отвратительно, все, что ты говоришь!
— Я не люблю Римму, понимаешь, Сашка, не люблю, как не люблю и все стрельцовское, начиная и кончая высокогуманным и высокоинтеллектуальным Василием Алексеевичем. Бродить под ручку с Риммой, танцевать, пить кофе и болтать о чем придется, признаюсь, мне было интересно. Но ведь есть же и пределы, когда надо останавливаться. И было бы, Сашка, куда отвратительнее, циничнее, если бы я стал продолжать свою затянувшуюся — черт! — «дружбу», что ли, с Риммой.
— Ты мог бы раньше остановиться! Если ты это все понимал.
— Да, я понимал. Но и Римма тоже ведь понимала, к чему клонится дело. Как она бегала последние дни за мной! И знаешь, Сашка, тут меня просто захватил спортивный интерес: посмотреть на нее, когда я скажу ей, какая все же она… Ну, что-нибудь вроде «дуры», только помягче. Не могу иначе: девушка!
Маринич сорвался с места, раздраженно отстраняя мелкие веточки, нависшие над скамейкой.
— Так почему… почему же… ты даже не посмотрел на нее? Почему ты заставил Римму сидеть в кафе в полном одиночестве и лишь догадываться, что все это значит!
— Спортивный интерес у меня уже иссяк, — пожимая плечами, спокойно ответил Мухалатов. — Дело в том, что с этой целью я сегодня под вечер как раз и направился на дачу к Стрельцовым. И представляешь, какие в своем воображении я видел лица? Но тут на пути мне попалась коза. Она исчерпала все.
— Какая коза? При чем здесь коза? — Маринич злился все большё.
— Беленькая, чистенькая коза. На веревке. Чем-то очень похожая на Дон-Кихота и на Василия Алексеевича. А у меня с собой была коробка зефира для Риммы. Она очень любит зефир. И не мог же я начать свой горький разговор, даже не предложив ей сладкого угощения!
— Ну?
— А кроме того, в кармане у меня оказался пакет молотого черного перца. Это предназначалось для Вероники Григорьевны. Обмолвилась как-то: нет в их магазинчике черного перца. Ну вот, я и приготовил зефир с начинкой, предложил козе. Меня давно занимало: какую морду сделает она? Сашка, это надо было видеть! После этого уже не имело никакого смысла идти к Стрельцовым. Коза изобразила сразу всех, все их семейство. Я вижу эту козью морду до сих пор.
— Какая жестокость! Володя, я больше не могу с тобой разговаривать… — И бросился прочь.
Мухалатов тоже вскочил, поймал его за руку:
— Постой! Постой! Да не горячись ты. Это, вероятно, в моем вдохновенном рассказе все получилось таким преувеличенно страшным. А на деле коза прокашлялась, потрясла своим коротким хвостиком и уже через пять минут как ни в чем не бывало принялась щипать зеленую травку. Да ты постой же, ну постой! Вот это-то больше всего меня и убедило в бессмысленности и полной ненужности какого-либо словесного объяснения с Риммой. Как и коза, она сегодня прокашляется, а завтра уже спокойно будет щипать зеленую травку. Пойми, я тоже хочу быть гуманистом.