Николай Батурин - Король Королевской избушки
Красочная тишина тайги врывается в мою обнаженную душу, и та снова распускается зеленью. Обживаюсь рядом со всем живым. С пеньем птиц и журчаньем воды. Рядом с высоким, с безмерным, но не высокомерным. С надеждой, которая сливается с желанием: быть не каменным столпом, а перекатышем. Пойти на дно — стать рыбой, ударив хвостом по поверхности. Быть деревом, но никогда, ни в кои веки не топором, обманутым своей ритуальной ролью. Желания, которые порой столь же напрасны, как выпавший над морем дождь, предназначенный для иссохшей земли. Но мне не на что жаловаться, незачем ломать голову. Можно сломать шею. Каждому однажды суждено ступить на свою единственную тропу, может быть и последнюю. Дорога, та может вывести многих одновременно. И наверняка тут появятся дороги и придут многие. Но другие… Я трогаюсь в путь. Шагаю, собаки далеко впереди, брюхастые олени, словно ходячие бочки, позади.
Солнце отмерило первую четверть дня. Солнце хорошая вещь для тех, у кого нет часов. Как в одной правдоподобной сказке: человек, который никогда не смотрел на часы, сберег столько времени, что ему никуда не нужно было спешить. Наоборот, у него еще оставалась уйма времени. Можно было опасаться, что он начнет убивать время. И поэтому добрые люди решили подарить ему часы. Но человек долго не думал. Он взял маленькую вещицу в свою огромную ладонь, где она казалась яичком жаворонка в гнезде орла, и перекрутил пружину своими жесткими, как клешни, пальцами. Даже не посмотрев, в какое время он это сделал. И снова времени у него было вдоволь. Но он не стал убивать ни часа, ни минуты, ни мгновения. Наоборот, он удвоил жизнь времени. Будучи в пути, а в пути он был всегда, он не торопясь проходил двойное расстояние. В то время как его ноги профессионального ходока мерили землю шагами землемера, сам он бродил иными дорогами. К вечеру он уставал. Обувь изнашивалась, ноги стирались. Но он не выглядел измученным. Это сразу бросалось в глаза добрым людям, когда они встречали его спустя долгое время. Они приписывали эту заслугу подаренным часам. «Вот видите, каждый должен знать, как время тратить…» — говорили одни. «Время — деньги», — говорили другие. «Делу время, потехе час», — говорили третьи. Человек не говорил ничего. Он смотрел на них, как мальчишка смотрит на взрослых, когда карманы у него полны всякого хлама, а на дворе хорошая погода. Нельзя сказать, что правдоподобная сказка на этом кончалась. Или начиналась. Она продолжается. Пока существует человек, о котором речь. Или какой-нибудь другой человек, о котором другая речь.
Солнце возвещает о том, что наступает обеденный час. Олени сильно отстали. Меня это тревожит: видел недавно свежие следы медведя. Тощий по весне, осатаневший от голода косолапый, так что держи порох сухим. Поджидая оленей, выстаиваю в красочной тишине целое мгновение; прислоняюсь спиной к березе-молодухе, слушаю, как бродят в ней соки…
Она могла бы быть женщиной высокого роста. С гибкой шеей, характером некрутым, но с круто выгибающимися бедрами. Так, чтобы мои широкие ладони вполне умещались на них. Ее лицо… Его мне трудно представить. Попробуй представь! И все-таки у нее должны быть черты как у цветка. Глаза не какие-нибудь кусочки льда, хотя в них отражались бы небо, и солнце, и ветер. То не была бы девица. То была бы женщина, в черных, как тетеревиное крыло, волосах ее мелькает седина — как у меня на висках. У нее должно быть много нежности, двойной нежности, нежности кожи, рук, нежности слов, потому что мои губы на нежные слова не способны. У нее должны быть большие пышные груди, которые можно не только почувствовать, но и увидеть. У нее была бы размашистая мужская походка, хотя она и женщина. Женщина. Не с высокообразованной головой и необразованной душой, а по-женски умная женщина. Чтобы она верила, когда я говорю правду, и не верила, что я могу быть неискренним. Чтобы любовь ее была не какой-нибудь глоток из оленьего следа, а родник, из которого можно напиться и в котором можно увидеть себя.
У нас были бы длинноногие дети, с волосами как теплая земля. Как земля, в которую я мог бы посадить свои застывшие на морозе пальцы… Она была бы высокой женщиной, от нее веяло бы тишиной и покоем, тихим покоем. Я бы черпал у нее крепость духа, не чувствуя себя при этом в крепости…
Эти олени могли бы еще дальше забраться, чтобы им некуда было спешить. Мне еще рано уходить от этой березы; рано или поздно, но надо уходить от этой солнечно-теплой березы, чьи прохладные соки просочились в мою кровь… Но я вернусь сюда в будущем году, по этой же тропе, и сделаю здесь привал, поджидая оленей. Хотя эту тоненькую березу могут срубить на жердь, и тогда ничего не останется, кроме моего прихода по этой тропе и недолгой стоянки под срубленной березой в ожидании оленей. Это всё от людской привычки искать тень под срубленным деревом, — так буду я тогда думать, опершись о березовый пенек.
Уже слышен глухой звон оленьих привесок, а вот и сами олени — сначала их развесистые рога, точно голые ветви ранней весной или поздней осенью. Стоические звери, забот у них не меньше, чем комаров над ними, тяжесть пути принимают как должное, без героического пафоса.
Открываю бутылку дегтя и смазываю кисточкой стертые спины оленей, белошерстые ноздри и уголки глаз. Отчего комарам становится ужасно некогда. Даю каждому оленю по куску сахара в крошках табака и погоняю дальше. Легкое прикосновение их теплых морд к моей ладони — как приветствие, а не как прощание.
Тропа вливается в лощину, проходит по мшистому дну, свободному от бурелома. Мимо любопытных глаз прошлогодней клюквы. Мимо слепого желания бормочущих тетеревов. Мимо улыбающихся солнцу горных сосен и вечно серьезных елей. Моя радость — явление природы, я не могу ее сдержать, попробуй-ка сдержать дождь, или снег, или ветер. Теперь можно и спеть, запретить-то нам некому. Эта лощина подходит для пения или свиста. Скалистые склоны, словно стены певческой эстрады, умножают мой сухо ломающийся в запекшихся губах свист, и мой сиплый простуженный голос согревается, становится краше, пронизывая красочную тишину долины. Я вообще не пою того, что поют где-то. Эти песни в тайге неуместны, как неуместны здесь комнатные цветы. У меня большой запас мелодий, хотя я и не знаю, откуда они взялись. Может, из песен, которые поют где-то, пускай. Чего не знаешь, за то не отвечаешь. Но слова этих песен обладают силой только между стенами и потолком, в тайге они похожи на сонное забытье. Итак, под ритмичный шаг я начинаю петь на мотив, не подсказанный ни одной песней, быть может только ветром. Слова у меня под рукой — пою, как на Севере поют, о том, что думаю, что вижу:
Я вижу дерево и пою: дерево
и к дереву
припеваю листву
и корни пою и растет дерево.
Я вижу скалу и пою: скала
и к скале припеваю тень я
на скале пою росомаху
и беляка пою
в тени скалы.
Вижу дерево и скалу
и пою: дерево и скала
и иду и иду все дальше
и пою о том что было раньше.
Вижу кость и пою: кость
вокруг кости пою плоть
и плоть пою и пою страсть
и пою и иду все дальше
и пою что бывало раньше
и снова пою и опять иду
иду все дальше и дальше.
И так иду я и пою, как коренной житель здешних мест, как охотник, пою то, что попадается на глаза. Моя песня длится, пока хватает настроения и ровного дна распадка. Вскоре оно кончается. Скалистые щеки склонов сменяются осыпями, которые постепенно переходят в моховое болото с редкими корягами. На нем олени продавили следы. Заполненные водой, они сверкают как разбросанные осколки зеркала. На озерках, теряющихся вдали, слышен крик шилохвосток и гогот болотных гусей. Из бочага торчит голова Пана, вокруг пробивающихся рожек корни аира, в зеленой бороде коричневая торфяная труха, точно табачный сор. Или табачный сор, как коричневая торфяная труха. Лицо Пана угрюмо. Но угрюмость не то выражение, когда хотят напасть, скорее наоборот. Ястреб нападает, когда положение солнца ему благоприятствует, когда его тень не может быть замечена жертвой. Поэтому собаки обращают внимание на Пана не больше, чем на сплетение корней, поднявшихся на поверхность под давлением болотного газа. Но я-то должен иметь в виду, чьи владения прохожу. Зондируя шестом моховину, прокладываю путь упрямым животным. Ну вот, перешли! Не обошли, не прошли, а перешли. Но не будем пока радоваться. Впереди широкий водостой, перекопыченная дикими оленями трясина. Тут-то перегруженный олень и проваливается всеми четырьмя копытами в булькающую жижу. Отчаянно рвется вперед и бросается набок. Вперед — и набок. На темно-коричневой поверхности трясины посверкивает изморозь, словно истолченный сахар на шоколадном торте. Животное не спускает глаз с островка, торчащего из трясины. Я не спускаю глаз с оленя. Чтоб он провалился, этот человеческий скарб! Крепко привязанный скарб, аккуратно привязанный скарб. Мой скарб, твой скарб, его скарб; наш, ваш, их крепко привязанный скарб. Ни дна тебе, ни покрышки, чертов вьюк… Перерезаю ремни… Где бы мне достать еще одну жердь оленю под брюхо, чертов вьюк… так, теперь петлю, веревку под грудь… Так, чертово барахло, которое оленя тянет вниз, а человека вверх.

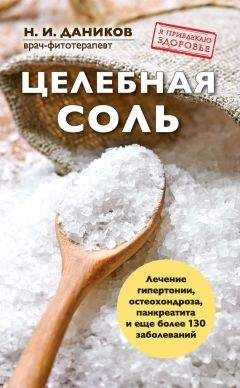
![Анатолий Бергер - Времён крутая соль [сборник]](/uploads/posts/books/258678/258678.jpg)

