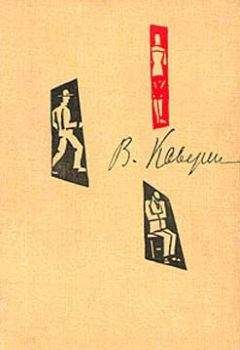Вениамин Каверин - Скандалист
— Толстой? — перебил его, отчаянно мотая головой, Некрылов. — Непохоже. Тут не Толстой. Ты узнаешь, кто ты такой? — Он посмотрел на Тюфина веселыми и злыми глазами, голым черепом, курносым лицом.
— Ты Станюкович! Он не только морские рассказы писал. Морские — лучше. У него есть романы, в трех, четырех, пяти частях. Вот эти романы ты и пишешь. Ты почитай! Очень похоже. В теории литературы это называется конвергенцией!
9К Драгоманову он попал не в четыре часа, как предполагал утром, а в начале восьмого.
Деловые разговоры в издательстве окончились его победой. Он наступал и наступил и ушел с деньгами.
Он явился к нему все еще злой, но уже с женщиной.
Три китайца, лопоча что-то, всхрапывая, щелкая языком, как дети, уступили ему и его спутнице комнату и самого Драгоманова.
Женщина была молчаливая, светловолосая, в меховой шубке и очень хороша собой. Некрылов отрекомендовал ее Верочкой Барабановой. Драгоманов поклонился и сказал, что как-то однажды имел уже удовольствие встречаться с Верой Александровной у одного циркового артиста, Кайиро Сато.
— Да, ты ее знаешь, она славная, видишь она какая, она рисует, — сказал Некрылов почти жалобно, отнял у нее шляпу, усадил в кресло.
— Послушай, Боря, почему ты все еще здесь живешь? — начал он быстро. — Что это такое — твои китайцы, это общежитие? Зачем тебе все это нужно? У тебя денег нет? Или тут у вас комнаты нельзя достать другой, что ли?
— А я все собираюсь к неграм банту, в Центральную Африку, — задумчиво и очень серьезно сказал Драгоманов, — так вот решил, что до отъезда не стоит уж менять комнаты. И кроме того, почему же? Здесь очень удобно. Все под руками.
Некрылов посмотрел — шутит он или нет. Год от году драгомановские шутки обертывались не шутками, а биографией — и не очень веселой, как видно: комната была запущена, грязна, пол запорошен папиросными окурками.
«У него нет денег, он не идет на легкий заработок», — подумал Некрылов.
— Боря, тебя очень уважают в Москве, — сказал он, нарочно забывая про Африку и отвечая своим собственным мыслям о Драгоманове, — вообще нас всех уважают. Я пишу о тебе в последней книге. О тебе была статья, читал? В «Печати и революции». Но послушай, Боря, эта комната и китайцы… Зачем тебе, притворяться Робинзоном Крузо? Это тебе важно для работы?
Он уже ходил по комнате и трогал вещи. Схватив со стола рогатую подставку для перьев, он раскачивал ее, крутил, продевал в нее пальцы. Это помогало ему говорить.
— Ну, если я Робинзон, так ты представитель от обезьян на необитаемом острове, — ленивым басом сказал Драгоманов.
Некрылов захохотал, и Вера Александровна улыбнулась.
— Это хорошо, — быстро сказал он, — именно представитель от обезьян. Но я ошибся, ты не Робинзон, ты скучнее. Знаешь, у Всеволода Иванова есть рассказ о купеческом сыне, который ушел в пустыню и стал отшельником. К нему начали ходить на поклонение, пустыня застроилась, вырос город. Он опять ушел, опять стали ходить на поклонение, снова пустыня застроилась, снова вырос город. Хороший способ застраивать пустоши! — перебил он самого себя, засмеявшись. — Так вот, он о тебе писал. У тебя комната образца девятнадцатого года, а кругом застроились.
Драгоманов махнул на него рукой.
— А ты все и не о том говоришь совсем, — задумчиво сказал он, — ты же сам очень плохо живешь, Витя. Я знаю, что плохо. Ты вот, это я из газет знаю, чем-то там, кинематографом, кажется, занялся. Так это ж пустяки, а?
— Вот-вот, он и меня тоже огорчает, кинематографом занялся, — сказала очень сердечно Вера Александровна.
Она держалась как близкий Некрылову человек. Он по временам подходил к ней и, не прерывая своей обвинительной речи по поводу драгомановского способа жить, гладил ее, как-то трогал за руку, за плечо. «Милая женщина», — подумал Драгоманов.
— Нет, вы хорошенько расспросите его, как он сам-то живет в Москве, — сказала она наконец и, отодвинув рукав пальто, взглянула на часики.
— Виктор Николаевич, если вы хотите еще заехать куда-то в Капеллу, так нам пора собираться.
— Вот видишь, Боря, что она со мной делает, — еще жалобнее сказал Некрылов и схватил ее за рукав. — Я с тобой не успел двух слов сказать. Понимаешь, я сам отлично знаю, что кино — это искусство для дефективных детей. В Капелле — литературный вечер. Если ты не занят, проводи нас. Черт с ним, с кино! Я тебе расскажу, что я думаю насчет лингвистики в теории литературы.
10— Vanitas vanitatum et omnia vanitas![4]
Привычку говорить пошлости по-латыни Кекчеев приобрел во время своего кратковременного пребывания на филологическом факультете Ленинградского университета. Латинские изречения помогали ему круглее строить речь и презирать людей, не получивших классического образования. Он не упускал случая сказать при начальствующем лице какую-нибудь латинскую фразу. «Timeo danaos et dona ferentes»[5] или «Omnia mea mecum porto»[6] — безошибочно подходили ко всем без исключения происшествиям — международным, служебным или личным. Это выглядело шуткой и в то же время заставляло относиться к нему с некоторым уважением — тем более что за десять лет войны и революции латынь была основательно забыта даже самими латинистами.
Кроме того, эти афоризмы как нельзя лучше шли к его юношеской медвежеватости и важности, с которой он носил свои заграничные очки и фетровую шляпу.
«Vanitas vanitatum et omnia vanitas» — было сказано о программе литературного вечера в Академической капелле. Он сидел в боковой ложе, рядом с эстрадой, и иронизировал, впрочем, в меру — по поводу стрекозоподобной машинистки, делавшей ему глазки снизу, из партера, по поводу толстой дамы из «Прибоя», которая с монументальной грацией вертелась рядом с ним, по поводу рыжего мха, который рос на ее шее, наконец, по поводу писателей, которые галдели неподалеку, в проходе, готовясь к выступлению.
Тихий бородач, делопроизводитель торгового сектора, вежливо слушал его.
Эстрада была освещена. По ней вот уже с полчаса бегал туда и назад хорошенький мальчуган с красными ушами, должно быть, распорядитель. Все следили за ним с сочувственным видом.
Вечер открылся вступительным словом робкого и мало кому известного человека в широких штанах. Он был маленького роста и говорил шепотом, про себя. Удалось все-таки разобрать, что попутчиками он недоволен. По его мнению, они писали что-то не то и часто сбивались на неблагонадежную идеологию.
С ними было очень много хлопот. За ними следовало, по мнению докладчика, неустанно следить, следить не покладая рук.
Поэт с громоподобным голосом выступил вслед за ним. Грудь у него была как плита, телосложение мощное. Когда, уверяя всех, что «над пажитью туманной взошла его звезда», он двинул себя в грудь кулаком — в зале раздалось и долго затихало на хорах гуденье, подобное похоронному звону.
Ему долго аплодировали.
Вслед за ним с неприятной поспешностью стали выступать прозаики. Все они были как-то на одно лицо — и маленький кучерявенький, и длинноногий с демоническим лицом.
Но длинноногий с демоническим лицом не окончил. Шум зашагал по зрительному залу, все оглянулись.
Любопытство, накатившее как гроза, летело между рядами стульев, повертывая глаза и плечи.
Некрылов, немного припрыгивая, таща за рукав меховую шубку, из которой глядело сердитое лицо Веры Александровны, проскочил вдоль зрительного зала. Он шел в артистическую, — в Капелле почему-то нельзя было попасть туда иначе, как пройдя через эстраду.
За ним шествовал, равнодушно топая хромой ногой, Драгоманов.
Бородач из торгового сектора, очень интересовавшийся всеми без исключения знаменитыми людьми, толкнул Кекчеева в бок и глазом показал на Некрылова.
— Кто это? — внезапно вспыхнув, спросил ого Кекчеев.
— Он снова приехал из Москвы, — тихо пробурчал бородач, — вы его не знаете? Его вся Москва, весь Ленинград знает. Это Некрылов.
Прозаик с демоническим лицом фальшивым голосом читал что-то о белогвардейцах, толстая дама из «Прибоя» неприлично подсвистывала носом, и рыжий мох на ее шее качался с унылой монотонностью.
— Я спрашивал не про него! Про эту женщину, которая шла с ним, — пробормотал Кекчеев.
11Сущевский, беллетрист, байбак и пьяница, негромко бил в барабан, забытый музыкантами в артистической комнате Капеллы. Он только что вернулся с эстрады. Забывшись, он читал без конца, распорядитель, хватаясь за голову, попросил его скромную жену послать ему на эстраду записку. Она написала: «Валька, кончай!» — и он оборвал на полуслове.
Смущаясь, он вернулся в артистическую и именно от смущенья, не зная, что с собой делать, негромко бил в барабан.
Здесь было весело, а в зале страшная тоска, он был очень рад, что возвратился. Жена старалась не смотреть на него, он огорченно объяснялся с ней и подлизывался.