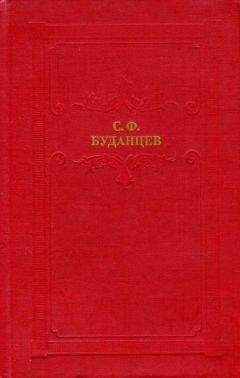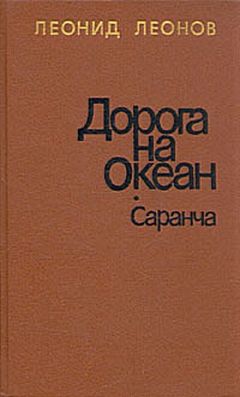Сергей Буданцев - Саранча
— Где же он? Где же он? — спросила она наконец.
Повернула тронутый сумасшествием взгляд на Веремиенко и медленно, почти сухо произнесла:
— Тот человек, который спасет Мишу и меня отсюда, из этого проклятого края, где нельзя быть ни на одну минуту спокойной за бесценную для тебя жизнь, тот, кто нам поможет устроиться спокойно, в довольстве, — да я ему отдам душу. Пусть будет у нас спокойная зрелость, дети! — воскликнула она со страданием. — Их надо воспитывать, учить, а где здесь? Нищете конца-краю не видно, безлюдье, разор. Жить посулами я не могу. Да, я на все пойду, чтобы отблагодарить… Когда вспомню дочь в гробу и то, что с ней оторвалось, — а она так похожа на него… — последнее она выдохнула шепотом.
Он отшатнулся, упал на стул, как будто его взметнуло вихрем этого страстного желания.
— Послезавтра я еду… — Он облизнул губы. — Послезавтра… — Рот его зиял. — Кроме командировки, у меня там есть разные делишки. — Он дрожал. — Я отказывался. Опасался. Осторожничал. Теперь посмотрю. Теперь другое дело. Теперь… Любовь, — мне ее страшно, Татьяна Александровна. Такой, как ваша… Я пойду. Я подумаю.
— Да, да, идите, — подхватила она. — Надо отдохнуть вам. У вас такой вид… нехороший… (Она ни разу не посмотрела на него). И мне будет легче одной. Степанида спит со мной в спальне. Идите.
Он завладел ее пальцами, целовал, повторяя:
— Руки… руки… залог… обещание…
— Идите! Идите! Идите!
Загрохотал щеколдой, дверью, со ступенек прогремел в ночь, побежал, оступился, кто-то поддержал его. Он закричал, узнавая: «Пан! Марья Ивановна!» Пан забормотал растерянно, словно приняв в объятия это стремительное тело, он от соприкосновения получил разряд его тревог. А она, позевывая, как будто всю жизнь жила в том времени, в том племени, где, кроме покоя, ничего не видали, лениво, с обдуманной степенностью, мямлила:
— Что это вы опять редко заходите? Скарлатиной-то ведь не отговоришься. Да и после нее вы не раз зимою захаживали.
Веремиенко молчал. Пан вмешался.
— Совсем отбился. Когда же это он у нас бывал, я что-то не припомню.
— Он и меня иногда навещал. — Она усмехнулась. — Сейчас начнется гроза. Я, знаете, люблю южные грозы, перед ними не то чувствуешь любовное томление, не то выпить хочется. Ну, мы со стариком ни того ни другого не можем, — вышли погулять.
Пан хихикнул.
Глотая звезды и сея молнии по ближней округе, туча, бродившая по горизонту весь вечер, теперь надвигалась с необыкновенной быстротой. Подымаясь сама, она подымала шум. Предшествовавший ей ветерок нес какую-то пыльную свежесть и больше всего напоминал о дальней поездке. Двор завода как будто узился, ежился. И, готовый ринуться под сернистые вспыхи молний, в рычании грома, под детские всхлипы дождя, сближал зашумевшие деревья.
— Что творится в тополевой аллее! — свежо и тревожно сказала Марья Ивановна. И, уже не в состоянии обезвредить накипевший в ней яд, торопливо, до дождя выбалтывала:
— Для каждого мужчины каждая баба свой секрет носит. Иная откровенностью, иная тайной завлекает, большими чувствами, непомерными требованиями. А иная прижмет к белу телу, — все забудешь. А на поверку, — один узор для всех.
«Да, она подслушивала. Она подсматривала», — терзался Онуфрий Ипатыч, расстегивая толстовку, подставляя грудь сыроватому веянью. «И с этой женщиной я спал!.. Если она сейчас не уймется, я все скажу пану».
По глазам ударило воспламенившейся сиреневой кистью, короткий резкий дребезжащий удар разразился вслед. И с тех пор не переставал, подымаясь до неимоверной силы, бил в небе как бы огромный бубен. Широкое шуршанье впопыхах надвигалось на них.
— Дождь! Дождь! — вскрикивала Марья Ивановна как-то в нос, словно стеная.
Она потащила за собой мужа, оставившего руку Веремиенко. Тьма заколыхала, зазвенела, зажурчала, молнии путались в нитях дождя, но и ливень не мог вымыть из ушей Онуфрия Ипатыча повизгивающего стенания.
Глава четвертая
Бывает, проснешься среди ночи или в бурый рассвет цвета волчьих взглядов, с изжогой, подымающимся сердцебиением, пугающим до холодного пота, с таким вкусом во рту, словно питаешься отравой, подсовываемой недоброжелателями, — и вот уже изжога, космическое бедствие, обрекает на вечные муки, — стоит ли жить? Нет, так жить нельзя!.
— Так немудрено и сдохнуть!
Онуфрий Ипатыч переводил безнадежный взор с одного пятна на обоях на другое. Неутешительное убожество скверного номера грозило испакостить все воспоминания о прекрасных утрах, закатах, добраться до белоснежных шапок горных вершин, до моря, на которое он не мог смотреть без благодарной дрожи. Даже облик Тани Крейслер потухнул. Вот бы облегченье должно получиться: ну, чего в самом деле? Ну, дама, костлявая, нервная, без кровинки в лице! Ан не тут-то было, облегченья нет, похожая на ужас жалость к ней и любовь подступают, как икота. Кожа, кровь, кости, все отравлено похмельем. Поднимешь руку, дрожит.
Гостиница просыпалась. Коридоры зажили язвящим слух шумом: шлепали туфли, хлопали двери, звенела посуда, шипела вода в уборных. Заезжие персы-купцы, трое в одном номере, наперерыв звонили, вызывая номерного. Он скользящими прыжками летал по коридору. Сосед-грузин, весельчак и бабник, запиликал на кяманче, — мудреном туземном инструменте, пронзительном и мелодическом, ощупью ловил мотив, пока не набрел на «Чайку», и целый час терзал ее. Это было так же смешно, как слушать псалтырь по-французски.
Воспоминания приходили в голову только стыдные, о таких происшествиях, где ему пришлось играть жалкую или унизительную роль. Татьяна Александровна издевалась над ним, что он влюблен в Марью Ивановну, не догадываясь, что ее насмешки жалили больнее, чем обычные дружеские колкости. Неудачи преследовали его и в городе. Им прикрываются для своих махинаций, и никто, кроме него, не исполняет своих обязательств.
В дверь стукнули, шелестя, просунулось письмо.
Письмо было от Крейслера.
«Как идут дела, дорогой Онуфрий Ипатыч, и в Хлопкоме, и в Саранчовой организации? Мне кажется отсюда, что неважно. Но, как бы они ни шли, ваше долгое молчание тоже непростительно. Во всяком случае, вы должны нас держать в курсе дела, положение слишком серьезно. За месяц, как вы в командировке, я получил только одно письмо, в самом начале. Теперь вполне выяснилось, что хлопковая посевная кампания на три четверти проиграна. То, что мы под угрозой саранчи не авансировали хлопкоробов, сказалось: Я боюсь, что и осенью нам не удастся расконсервировать завод. Но этого вы не говорите, потому что нас вовсе лишат тогда денег. Впрочем, денег нет ни копейки, и как я управляюсь — сам не знаю. Рабочие живут посулами. Настаивайте на присылке хотя бы небольшой суммы, — ну пятисот миллиардов. Этим мы покрыли бы часть самой катастрофической задолженности, главным образом по жалованью.
Но самое важное, конечно, саранча. Здесь действительно все обстоит ужасающе: нет ничего, никакого движения, как будто никакой Степи и никакой саранчи не существует. Что же делается в Саранчовой организации? Там сидят просто преступники. Мне удалось привлечь через Советы довольно много добровольцев, но без питания, без орудий, мало лошадей. Кроме того, вы не хуже меня знаете, что с таким количеством саранчи бороться одними механическими мерами это то же, что черпать море ковшом. До нас дошла по газетам беседа с чрезвычайным уполномоченным. Он хвалится, что заготовлено довольно большое количество ядов, аппаратов для сжигания саранчи, которые якобы одобрены специалистами, огромное количество керосина, продуктов питания, — где же все это? Что же, хваленые специалисты не знают, что их за такое промедление, — за одно это, — можно отдать под суд и расстрелять. Ваше дело, — где возможно двигать, напоминать. Вы — посол угрожаемого района.
Вся округа, верст пятнадцать по Карасуни, превратилась в военный лагерь. Меня лично беспокоят беженцы: покуда их кормят, покуда они окружены местным населением, перемешаны с ним, их можно держать в узде. Но они на наш полуторафунтовый паек прут сотнями, хлеба осталось на неделю. А что потом?
Эффендиев выходит из себя. Пан Вильский прекрасно ведет раздачу, привык кормить детей. Но что будет, если мы не будем кормить? Голодные беженцы разнесут все, потому что это отчаявшиеся озверелые люди. Выезжайте как можно скорей. Телеграфируйте, когда выедете. Иначе никто не может нести ответственность за последствия. Писать больше не могу, перо вываливается от усталости.
Ваш М. Крейслер.
15 мая 1922 года.
Татьяна Александровна вам кланяется.
Она поправилась. Приступы значительно реже. Но худа, жалка. И подумайте, что я ей дал? Эх, иногда вам позавидуешь, — свободный человек, ни перед кем не несете ответственности, одна голова не бедна».