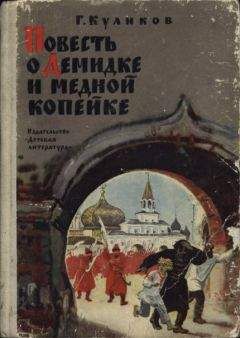Александр Поповский - Повесть о несодеянном преступлении. Повесть о жизни и смерти. Профессор Студенцов
— Вы чародей, Ардалион Петрович, гений! — захлебывался от восторга директор института. — Откуда это у вас?
Ответ был столь неожиданный, что Евгения Михайловна невольно прислушалась.
— Чародей? — хохотал Пузырев. — Да вы сущий ребенок, жалуетесь, что новаторы заели, и спрашиваете совета. Кто на них сейчас внимание обращает? Мы с вами — администрация, наука и еще кое–что, пусть повоюют… Говорят, что мы нозую идею встречаем в штыки, а как к ней иначе относиться? Так без боя уступить, — валите, мол, всё, во что мы верим и знаем, рубите под корешок? Когда же это бывало, чтобы перед каждым чудотворцем настежь раскрывали дверь? Бедняга Коперник лишь на смертном одре увидел свое учение напечатанным. Лютер успел назвать его глупцом, и смерть избавила астронома от больших неприятностей… Королевское медицинское общество в Лондоне отказалось публиковать книгу Дженнера, и тот, кто оградил человечество от оспы, выпустил свой труд за собственный счет. Свыше века ученые не признавали полезность оспопрививания, по их настоянию прививка оспы поныне в Англии необязательна… Науку надо беречь от произвола. Угодно Коперником прослыть, научное хозяйство вверх тормашками поставить? Докажи. Мы в долгу не останемся: драться будем что есть сил…
— Он вам и докажет, — перебивает хозяина гость, — дайте, говорит, больных, и вы убедитесь… Как быть тогда?
— Соглашайтесь, — советует гостю Ардалион Петрович. — Бери, милый человек, пробуй, — все равно ничего не выйдет… У него ведь за душой ни шиша нет, выложит на стол размазню из травок и корешков и давай чудить: сегодня он ею лечит подагру, завтра психического больного, а там и вовсе на рак пойдет. Наши врачи панацеи не любят, посмеются над спятившим новатором — он и сбежит. Сами не догадаются, подскажешь тем, кто помоложе и побойчей… Они живо чудака из клиники выживут.
Евгения Михайловна припоминает нечто подобное. Случилось это не так давно с врачом из провинции Рыбковым. Он действительно этой смесью лечил больных, и вполне успешно. Ни с того ни с сего вдруг с ним повздорили практиканты, к ним примкнули две сестры, и Рыбков с досады оставил клинику… Так это подстроил Ардалион Петрович? Зачем? А ведь он тогда грозил удалить практикантов с кафедры и сестрам хотел объявить выговор. Ничего подобного он не сделал, так обошлось… «Странное признание, — думала Евгения Михайловна, — постыдился бы профессора…»
— Иного мы и в клинику не пустим, — продолжал разглагольствовать хозяин, — человек не подопытная скотина, пусть над животными куражится. Один такой открыватель на собачках и кроликах все–таки выплыл. Давайте, говорит, людей. Легко сказать — давайте! Какой больной этому обрадуется? А случись неудача, кому отвечать? Дал я ему безнадежного больного. Не очень благодарный материал, все процессы у него перевернуты, системы разрушены, на доброе лекарство организм такую закатит реакцию, только держись. Зато уж победу никто не оспорит: да, скажут, спаситель — мертвого воскресил… Привыкли наши чудодеи без страдания всего добиваться, и чуть не так — с жалобой к министру прут… Историю забыли, не грех бы вспомнить, как легко нашим предкам давались открытия… Когда Жан Дени в семнадцатом веке стал переливать кровь больным, а средством лечения признавалось не переливание, а кровопускание, медицинский факультет отверг протекцию короля и не дал ученому ходу… С нашими изобретателями счеты коротки: походит, поклянчит, погуляет с жалобами по этажам и инстанциям и отвалит…
Так вот как обстояло с врачом Козелковым, снова вспоминает Евгения Михайловна, ему дали безнадежного больного. А ведь Ардалион Петрович уверял, что Козелков клевещет, он просто не справился и валит свою неудачу на других… Бедняга, он и сюда не раз приходил, о чем–то просил, но так ничего не добился.
«Вы просто неудачник», — сказал ему Ардалион Петрович, и кличка эта крепко к Козелкову пристала… Жаль было молодого человека, но ее убедили, что «неудачник» сам во всем виноват…
— Кто покрепче да понастойчивей, — продолжал Пузырев, — и больных получит, и докажет — тем хуже для него…
— Почему хуже? — не понимает Евгения Михайловна. С ней как бы соглашался и гость, он с недоумением сказал:
— Справился, и хорошо, ученый совет подтвердит, и новое средство войдет в практику клиники.
— Не так–то просто, — возражает Ардалион Петрович, — за нами еще слово, наука не прощает легкомысленного решения. Надо взвесить, обдумать, а если угодно, и подсчитать. Сколько у вас, спрашиваю я, прошло больных? Сто, говорят нам. А излечено из них? Оказывается, только девяносто. Не помогло, значит, каждому десятому. А скольким от лечения стало хуже? Троим, отвечает новатор. И вы хотите, спрашиваю я, чтобы врачи примирились со страданиями, а возможно, и гибелью трех человек во имя увековечения вашего метода лечения? Согласились бы вы предупредить больного, что он, возможно, станет этой жертвой? Прижатый к стене, новатор и слушать не хочет, — конечно, нет, от одной такой мысли больной не оправится. А уверены ли вы, не даю я ему опомниться, что семеро больных, которым ваше лечение впрок не пошло, счастливо отделались? Всякое лекарственное воздействие, как известно, чревато последствиями. Кто знает, что будет с теми, кого вы излечили, что их ждет? Задатки рака в нас тлеют по семь–восемь лет… Я не разочаровываю вас, ищите, дружок, работайте, добивайтесь, чтобы ваше средство излечивало всех подряд.
Безудержный хохот прервал рассуждения Ардалиона Петровича, почтенный профессор захлебнулся от восторга.
— Ради бога, досказывайте, — молил он, — ничего более умного я не слыхал. Ведь это — программа, я сказал бы — система идей!
— Благодарите бога, говорю я молодчику, что вы живете в двадцатом веке, то ли бывало в девятнадцатом… в 1828 году Генри Гикмен предложил Французской академии наук испытать при операции закись азота, проверенную в опытах на собаках. Отказали, и решительно. Ни в коем случае, ни за что. Протекция английского короля, через которого открытие поступило, не спасла предложение от провала. Шестнадцать лет спустя врач Гораций Уэльс усыплял своих больных закисью азота. Осмеянный противниками, измученный борьбой за дело, стоившее ему стольких усилий, он покончил с собой. Ему воздвигли памятник с утешительной надписью: «Гораций Уэльс, который открыл обезболивание». Один такой новатор, — продолжал Ардалион Петрович, — ввязался со мной в теоретический спор, и не с глазу на глаз, а в присутствии студентов. Пришлось, как говорится, засучить рукава…
«Разве ваши средства, — спрашивает он, — действуют безотказно, без брака и провалов?»
«Наоборот, — отвечаю, — мы не знаем лекарства, которое оказывало бы на больных одинаковое влияние. От одной и той же настойки многие выздоравливают, а у некоторых наступают тяжелые осложнения. Такова правда! Что поделаешь, в каждом организме своя лаборатория и болезнь протекает различно. В природе нет тождества — что ни человек, то большее или меньшее отклонение от нормы. Будь медики последовательны, они бы каждое заболевание рассматривали как новый случай малоизвестной болезни».
Мой молодчик подпрыгнул от удовольствия: шутка ли, такая подмога!
«Вы требуете от меня того, — возразил он, — с чем сами еще не справились».
«Конечно, — отвечаю я, — мы нуждаемся в том, чего у нас еще нет».
«А пока приберегаете скверные методы лечения и сопротивляетесь новым», — съязвил он.
«Что поделаешь, мой друг, — признался я ему, — они у нас единственные, лучших нет. Время заставило нас и больных примириться с ними…»
«А ваши жертвы тем временем уходят из жизни по всем правилам медицинской науки…»
«Это более чем естественно, — сказал я, — они во все времена погибали от болезней. К этому мы привыкли, а вот к тому, чтобы за благополучие одних платить жизнью других, вряд ли привыкнем».
В кабинете наступила тишина, гость несколько раз произнес «м-да» и как–то неуверенно спросил:
— Ваш интересный рассказ следует, конечно, понимать как вольное сочинение, что–то вроде притчи или упражнение свободного ума, не так ли?
— Как вам сказать, — неожиданно замялся Пузырев, — всякое бывало…
Непринужденная беседа затянулась надолго, о многом в тот вечер переговорили хозяин и его гость. Ардалион Петрович вспомнил свою ссору с Лозовским, не слишком правдиво изложил обиду прежнего друга и не без удовольствия поведал, как вероломный друг детства был отомщен.
Друзья разошлись, не подозревая, что с ними незримо присутствовала Евгения Михайловна и каждое слово причиняло ей острую боль.
После ухода гостя супруги перешли в столовую ужинать. Ардалион Петрович по обыкновению ел подолгу и много. Аккуратно разрезанные кусочки жареной ветчины, густо поперченные и посоленные, отправлялись в рот не спеша, через правильные промежутки времени. С такой же методичной медлительностью крошились крутые яйца, обильно приправленные горчицей и мелко изрубленным чесноком. Евгения Михайловна ограничивала свой ужин стаканом простокваши и ломтиком хлеба. Она заметила как–то мужу, что он напрасно перед сном так плотно ест, нельзя советовать больным диету, а самому не следовать ей. Он обратил это в шутку, сказав что–то нелестное по адресу людей, которые навязывают здоровым диету больных…